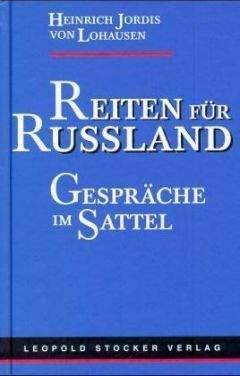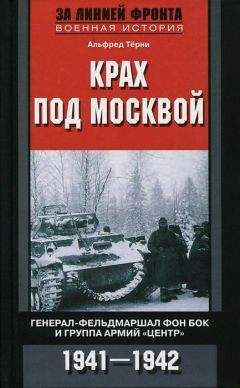Потому что, как ты думаешь, куда идут патенты, изобретения, рукописи и произведения искусства, если не туда, где есть большие массы покупателей! И не только они, не только произведения и мысли людей — но и сами люди, всевозможные специалисты, большие знатоки и большие мудрецы, все равно, техники ли они, художники или ученые! Неужели вы думаете, что маленькое государство может их удержать? Нет, также здесь действует правило: «У кого есть, тому еще дается, а у кого ничего нет, у того еще и отберут его немногое последнее!»
— При таком обожествлении массы и числа, — заметил правый всадник, — не наступит ли всего за одну ночь однажды такой момент, когда все это обрушится, неизбежно обрушится, предполагаю я, и при этом — во всем мире? Апокалипсис, во всяком случае, видит это именно так. Однако, он не указывает нам дату. Да он и не может этого сделать. Потусторонний мир живет без календаря. Но качество и количество не обменяются своей значимостью без того, чтобы земля не содрогнулась, наконец, во всех своих устоях. Для этого слишком велико противоречие между голой массой и настоящей ценностью. То, что произойдет, произойдет тогда, пожалуй, довольно внезапно. Нам нужно лишь довести это слишком далеко, и что-нибудь перевернется в нашей планете, ее структура, ее ось, ее колебания в космосе. Она — наша судьба, но мы тоже в небольшой степени являемся ее судьбой.
— Именно тогда, — отвечал левый, — мы не просто так скачем здесь, потому что как раз тогда томик Гёте, стихотворение Рильке или Гофмансталя и к ним еще кто-то, кто еще сможет их прочесть, переживут, скорее всего, еще этот поток, когда оба, читатель и произведение, будут миллионами рассеяны по всей земле. У Бога есть не только числа, он изобрел также расчет вероятностей! Где ветер развевает миллионы семян над морем, там, вероятно, все же, однажды вырастет дерево на дальнем побережье. И если однажды — благодаря такому числу — этот потоп переживет только маленькая кучка, родной язык которой — немецкий, тогда наш конный поход здесь и сейчас тоже не будет напрасным.
Так как немногие потом опять станут многими. Тогда снова будет иметь смысл сочинять для немногих избранных. Но сегодня — что за польза от поэта, что за польза от пророка, говорящего на языке, который понимают только тысячи вместо миллионов? Жаль каждое красиво сложенное стихотворение и каждую умную фразу. Они цветут и отцветают в неизвестности. Мир ничего не узнает о них, если автор не перельет их в один из тех языков, которые предлагают ему читателей в миллионном количестве.
И здесь тоже дается тому, у кого уже есть: армянин, который пишет — как Сароян — только по-английски, обогащает английскую литературу, вероятно, на сотого поэта и, вероятно, забирает одного единственного у своей родины!
И, все же, он должен делать это. Книги, как у него, вероятно, не будут читать многие. Его величество, покупатель, все равно предпочитает то, что сегодня расхваливают до небес и забывают завтра. Кто не поставляет это, у кого, как у автора, есть какие-то претензии, тот должен собирать свою публику со всех краев света, по крайней мере, пользоваться тем языком, который охватывает весь земной шар, иначе его произведение так и останется рукописью. Потому они сегодня уже массами пишут по-английски — не только армяне, но также греки, поляки, венгры и бесчисленные другие, нет, не потому, что они забыли ее родину, как раз, наоборот, потому что они рассказывают миру о ней, потому что они хотят, чтобы их действительно читали. Так как они должны что-то сказать людям и с некоторой перспективой на успех, и сегодня это можно сделать только на одном из больших международных языков. Некоторые мысли, которые еще стоит печатать для английских или немецких издателей, давно уже больше не стоит делать для болгарских или румынских.
Поэтому — я повторю — швейцарцы поступили как раз умно, когда они придерживались немецкого литературного языка. То, что они пишут, люди читают. То, что они думают, печатается, так как еще стоит думать по-немецки, писать и печатать на нем. Пока немецкий язык — это как бы еще международный язык, и в большей степени, чем вы предвидите, зависит от того, что он останется им. Не как единственный — это я признаю — это было бы скучно, и жаль другие языки. Но как один среди первых. Вероятно, первый. Многие из нас уже будут к тому времени холодны и безмолвны. Он же, однако, будет жить и, вероятно, станет однажды на всем земном шаре тем, чем был когда-то греческий язык.
Подумайте, что значит, если грекам приходится воспользоваться английским языком, чтобы открыться человечеству! Было время, когда «мир» — в той мере, в какой он был белым миром — не знал никакого другого литературного языка, кроме греческого! Время, когда все мышление и вся поэзия между Кадисом и Индией были греческим мышлением и греческой поэзией. Сам Бог думал по-гречески; наши евангелия написаны по-гречески! Подумайте-ка над этим! Но сегодня, однако, грек, чтобы стать понятным миру, должен использовать суровый, гортанный язык туманного острова на краю полярных морей. А почему? Только потому, что сегодня есть достаточно много — двести миллионов — англосаксов, но только пять миллионов греков, и, кроме того, эти двести миллионов заселяют одну четверть поверхности земли и определяют, сверх того, еще судьбу еще и следующих четырехсот миллионов цветных людей. И эти четыреста миллионов тоже учат английский язык, говорят друг с другом по-английски, читают английские книги и воспринимают английский образ жизни и английское мышление, даже если тайком желают отправить англичан ко всем чертям.
Понимаете ли вы теперь, что означает обладать родным языком, являющимся международным, и что мы, если мы хотим добиться для нашего языка уровня международного, должны теперь довести до конца эту вынужденную для нас войну — нравится ли нам это или нет!
— Что ты понимаешь под словом «вынужденная»?
— Когда мы нанесли удар, вся Красная армия уже стояла в готовности на позициях не где-нибудь за Москвой, а прямо у самой границы. И что же нам оставалось, ловушка была захлопнута; на одной стороне они, на другой атлантические державы. Мы начали войну, чтобы прорвать это кольцо. Нападение — это лучшая оборона. Других вариантов не было. И тем самым настал наш черед. Всегда в истории народов сначала приходим мы, солдаты. Мы создаем власти необходимую для нее свободу действий. Потом приходит плуг и удерживает эту власть. Но, в конце концов, приходит дух, и он — смысл всей власти.
— А не приходит ли дух с самого начала, а все прочее уже после него? — продолжал донимать другой.
— Нет, не в случае самообороны, не при необходимости опередить надвигающуюся беду, нет, если речь идет — как в нашем случае — уже о бытии или небытии. Дух действует — с моей точки зрения — только вне любого земного принуждения. Наилучший пример: ислам. Никто не бросал вызов Мухаммеду, никто за пределами Аравийского полуострова. Тогда сам дух был агрессором, по своей доброй воле, и он затоптал полмира.