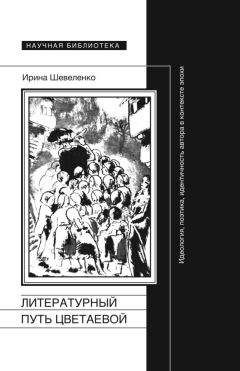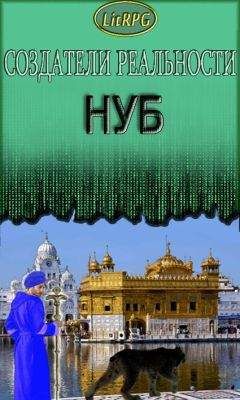Несправедливо, на наш взгляд, видеть в этом стихотворении, как это делает А. Динега, противоположение себя как творческой личности другим, обыкновенным, женщинам99. Цветаева здесь никому себя не противопоставляет. Она говорит пока о внутреннем конфликте, живущем в ней: знании о традиционном образе «женского счастья» и ощущении своей склонности к иным, не предусмотренным непосредственной традицией ролям.
В «Волшебном фонаре» этот конфликт уже изживается и переводится, как и другие серьезные темы «Вечернего альбома», в игровую плоскость. В таких стихотворениях, как «Только девочка» и особенно «Барабан», Цветаева ясно дает понять, что психологически сковывавшие ее прежде стереотипы «правильного» женского поведения над ней больше власти не имеют: «Женская доля меня не влечет: / Скуки боюсь, а не ран!» (СС1, 146). В «Юношеских стихах» и в «Верстах I» тема «ролевого конфликта», связанного с предписываемыми полом поведенческими стереотипами, уже не появляется.
Если мода на «женскую поэзию» явилась важным раскрепощающим фактором для творчества большинства женщин-поэтов 1910‐х годов, то в случае Цветаевой к нему добавился еще и другой: отсутствие установки занять определенное положение в текущей литературной жизни, быть профессионалом, связанным с внутрилитературной политикой. В результате эти годы стали для Цветаевой временем такой творческой свободы, которая редко выпадает на долю поэта в любую эпоху. Излишне говорить, что свобода эта была столько же даром, сколько и испытанием.
Стихотворение «Дикая воля» из «Волшебного фонаря» лучше прочих предсказывало направление, которое приняло творчество Цветаевой в 1913 году:
Я люблю такие игры,
Где надменны все и злы.
Чтоб врагами были тигры
И орлы!
Чтобы пел надменный голос:
«Гибель здесь, а там тюрьма!»
Чтобы ночь со мной боролась,
Ночь сама!
Я несусь, – за мною пасти,
Я смеюсь, – в руках аркан…
Чтобы рвал меня на части
Ураган!
Чтобы все враги – герои!
Чтоб войной кончался пир!
Чтобы в мире было двое:
Я и мир!
(СП, 47)
Концовка этого стихотворения отозвалась в 1929 году в очерке «Наталья Гончарова»: «История моих правд – вот детство. История моих ошибок – вот юношество. Обе ценны, первая как Бог и я, вторая как я и мир» (СС4, 80). «Детство – пора слепой правды, юношество – зрячей ошибки, иллюзии. По юношеству никого не суди» (СС4, 79), – варьировала Цветаева эту же мысль чуть выше. Хотя 1913–1915 годы, конечно, не являются в точном смысле слова юношеским периодом в жизни Цветаевой, именно «Юношескими стихами» назвала она впоследствии сборник этих лет, так и не вышедший при ее жизни100. Работая над очерком «Наталья Гончарова» в конце 1920‐х годов, Цветаева, скорее всего, проецировала свои слова не только на «юность» вообще, но и на тот период собственной творческой биографии, который отражен в этом сборнике.
Его название, впрочем, зафиксировало уже ретроспективную оценку этого творческого этапа. Сборник составлялся в первой половине 1920 года, и все пережитое в революционные годы делало период 1913–1915 годов психологически куда более далеким, чем об этом говорила фактическая хронология. Это ощущение огромности дистанции между собой тогда и теперь Цветаева, вероятно, и вложила в название сборника. Возрастной отпечаток, интонационный и тематический, лежавший на многих стихах этого периода, дополнился навсегда на них оттиснутой печатью иной эпохи, ставшей почти в одночасье невозвратно далекой, т. е. «юношеской».
«Юношеские стихи» представляют один из самых драматичных периодов не только человеческой, но именно литературной биографии Цветаевой. Если «Вечерний альбом», по замечанию Волошина, имел особую «документальную важность» как книга, «принесенная из тех лет, когда обычно слово еще недостаточно послушно, чтобы верно передать наблюдение и чувство»101, то «Юношеские стихи» – это сборник, в котором на глазах читателя разворачивается процесс поиска автором своего стиля, процесс сознательного отбора своего поэтического инструментария. Спонтанная «вне-литературность» установки Цветаевой (в описанном выше смысле) ослабляет ее рефлексию над такими категориями, как оригинальность, подражательность, тавтологичность. Это легко позволяет ей идти по пути самоповторений и «общих мест» текущей поэтической и интеллектуальной моды – до того момента, пока копившийся потенциал творческого прорыва не «взрывает» ее творческую манеру.
Внутренний сюжет «Юношеских стихов» предопределяется той исходной позицией, которую декларировал автор стихотворения «Дикая воля». Самоутверждение перед лицом мира переходит в стремление включить мир в свою орбиту; неподчинение мира, автономность его законов по отношению к воле отдельного человека образует ядро конфликта; признание власти над собой тех сил, о существовании которых прежде не подозревал, отмечает финал.
Если справедливо назвать время «Юношеских стихов» периодом «зрячей ошибки, иллюзии» в жизни автора, то источник ее – более эпохальный, чем личный. Цветаева вообще обнаруживает в стихах этих лет куда бóльшую, чем прежде, зависимость от интеллектуальных веяний времени. Сама «безудержность эгоцентризма»102, с которой начинает автор «Юношеских стихов», есть уже первая примета этой зависимости. В этом эгоцентризме воплощается один из характерных комплексов эпохи – романтическая тема состязания «сильной личности» с законами и обычаями мира, понятая через ницшеанский код. Связанный с ней мотив непримиримой противоположности смертного человека и вечного мира (из которой рождалась идея Ницше о необходимости «преодоления человека» и о «сверхчеловеке»), вдохновляет Цветаеву на многочисленные поэтические опыты. О духе «аристократического индивидуализма», «нашедшего самого крайнего и самого прекрасного выразителя в лице Фридриха Ницше»103, Цветаева должна была слышать от Эллиса еще раньше. Однако время для ее собственного «ницшеанства» наступило только теперь, в 1913 году.
«Все мы пройдем. Через пятьдесят лет все мы будем в земле» (СС5, 230), – именно этот мотив из предисловия к сборнику «Из двух книг» становится главенствующим в стихах 1913–1914 годов. Вокруг темы конечности жизни постоянно вращается теперь поэтическое воображение Цветаевой. Тема смерти как универсальная поэтическая тема присутствовала, конечно, и в ее первых сборниках. В них смерть воспевалась как благодать и начало новой жизни: «Смерть окончанье – лишь рассказа, / За гробом радость глубока» («Памяти Нины Джаваха»; СС1, 56). Несколько стихотворений «Вечернего альбома» были посвящены и теме самоубийства104 (в том числе, собственного), которое трактовалось как добровольный уход в лучшую жизнь из несовершенной земной жизни. Такое понимание смерти отвечало духу романтико-символистской мифологии жизни и смерти. Так, например, Бальмонт в своем стихотворении «Смерть» провозглашал: