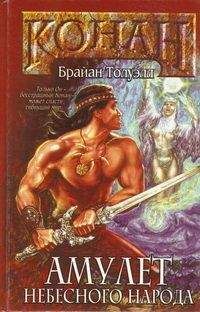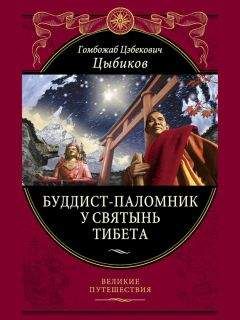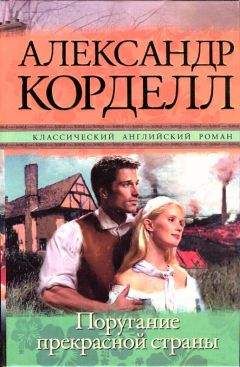Бабушка садилась за рояль и наигрывала любимые старинные вальсы времен ее молодости или те самые «стежки-дорожки», и незамысловатые эти мелодии погружали меня во время, в котором не я жила, куда мне очень надо было пробраться, чтобы понять бабушку. Что именно я хотела понять — мне и сейчас трудно обозначить. Скорее всего, мне надо было что-то узнать, чтобы научиться — через ее жизнь — жизни для себя. Мне не хватало этого познания. Бабушка была таимным, как встарь иногда говорили (я слышала в нашей деревне это слово в детстве), то есть скрытным человеком, а песенка и вальсы о чем-то мне говорили, что-то сообщали, являясь сокровенными свидетелями ее жизни, пожалуй даже знаками, в которых были зашифрованы какие-то страницы. А я догадывалась о них, но тогда спросить не умела…
«Позарастали стёжки-дорожки, /Где проходили милого ножки, /Позарастали мохом, травою, /Где мы гуляли, милый, с тобою. /Мы обнимались, слёзно прощались, /Помнить друг друга мы обещались»…
О чем напоминали бабушке эти грустные простенькие «стежки» — о спешном в начале 18 года отъезде заграницу мужа после того, как он, офицер «Дикой дивизии», Георгиевский кавалер, чудом выбрался из застенков ВЧК… О своем раннем всежизненном одиночестве?
…Обвенчались они с дедом Иваном Домбровским в 1912 году. В 1913 родился сын, а в 16 — дочка, а пожили-то они вместе совсем недолго: как только началась Первая мировая война, осенью 1914 года дед поступил на краткосрочные курсы в Николаевское кавалерийское училище в Петербурге. Бабушка все эти годы оставалась в Орехове и с мужем виделась-то несколько раз. В это время началась многолетняя эпоха ее крестьянствования — первые три года войны вместе с отцом Александром Александровичем Микулиным они предпринимали попытки наладить хоть сколько-то прибыльное хозяйствование: маслобойку или небольшой кирпичный заводик в нашей небольшой усадьбе (ничего из этого не успело выйти, да и наверняка бы и не вышло), чтобы обеспечить семью продуктами. А с 1917 года бабушка уже безвылазно жила в деревне. «Восемь лет работала в поле» — писала она в анкетах.
Одна с лошадкой и с прадедовскими орудиями труда пахала, сеяла на небольшом оставшемся наделе зерновые, сажала огород, сама обмолачивала старинным, сохранившемся в амбаре с XVIII века неподъемной тяжести цепом. Руки были золотые, труда никогда не боялась, энергии было не занимать, и сердце было золотое, самоотверженное, которое уже тогда она и надорвала…
Бабушка Катя была даже в своей семье человеком отличным ото всех. Трудолюбивы, способны, исключительно добросовестны были все. Но у нее это было как-то иначе. Она всегда любила простоту жизни. С самого отрочества. Безупречно воспитанная, хорошо образованная, деликатная, — откуда в ней была эта тяга к земле, которую я всегда слышу и в себе? Какое-то особенное расположение к деревенским людям, к крестьянствованию. Жизнь бабушка прожила трудную, видела много лишений, сердце ее понесло много потерь. Но не потому только она не имела ни малейшей тяги и склонности к роскоши, к комфорту, да просто к удобствам каким-то. Полнейшая непритязательность, как и сознательный и стихийный, природный выбор.
«Ах, Катюшок», — говорила она мне, допивая свой бледный чай («бледной» была наша жизнь тогда), — а чаевница бабушка была истинно московская, — Что может быть вкуснее чашки чая с белым хлебом! Какое пирожное с этим может сравниться!»
Вот эта ее любовь к простой и бедной жизни, к скудости ее, мне теперь говорит о каком-то даже монашеском ее устроении. Ведь и жизнь семейная не сложилась, как осталась непознанной и безответной ее первая и всежизненная любовь еще с гимназических времен. Другой крест ей вручал Господь…
Бабушкина молодость, непочатый край нерастраченных сил, и ее никому так и не открытая боль одинокости, преследовавшей ее и в постоянном многолюдстве окружения, и в самих предчувствиях бурь, настигавших в эпоху Серебряного века многих и отнюдь не только одиноких людей.
Бабушка играла, и милые эти обрывки мелодий тут же порождали в моем воображении набросанные всего двумя-тремя штрихами, воздушные, почти размытые и еле тронутые кистью акварели…
Рисовала мне эта песенка окраину старинного усадебного парка, где кончались аллеи старинных лип-великанов, и начиналась деревенская околица, а за ней порядок изб, где в каком-нибудь 1908 или 1909 году, как и годами раньше, на притоптанной лужайке собиралась на посиделки под гармонику ореховская деревенская молодежь. И среди них молодая моя бабушка — своя среди еще недавних крепостных ее предков и никогда, упаси Боже! — не превозносившаяся пред людьми другого сословия. Все знали, что и косарям Катя не уступит, и стог не хуже других крепко и ладно сметать сумеет, и что друг она верный… На посиделки приходилось ей убегать из дома после вечернего чая с замираниями сердца, тайно — через окно. А из домашних никто и не знал, как безудержно и отчаянно отплясывала Катя «русского» со своими деревенскими сверстницами и сверстниками…
А я — знала, потому что бабушка сама мне о том сказывала.
Знала я и то, что она немало в своей жизни земных красот повидавшая, — и в Швейцарских Альпах, и в Италии, и на Босфоре, и в горах Кавказа, больше всего любила простор русских полей, никогда не застивших своими холмами неба; что тихими летними ночами, забравшись в поле на высокую кладь сена, могла она часами смотреть на звезды…
Бабушка знала и любила звездное небо, почти так же хорошо, как и археологию. Из-за этого-то неба и этой-то земли и не уехала она из России вслед за мужем в 1918 году, оставшись на Родине с двумя малютками и престарелыми родными на руках.
Странно, но эти не мои воспоминания были для меня всегда желаннее своих собственных, и как-то сильнее, пронзительнее мне всегда со-чувствовалось и скорбелось не о своей жизни. Отчего так было, кто знает? Может те, кто были в моей жизни со всем, что им было дорого и что они любили, оказались мне дороже того, что было у меня своего (исключая только неописуемое счастье «первой любви» моего воцерковления)…
Возможно, сказывалось и общее оскудение благодатью всей нашей русской жизни ко второй половине XX века, возможно и то, что моя реальная жизнь была действительно слишком бедна той поэзией, которая еще покрывала старинным флёром очарования жизненные стези старших поколений моих родных, несмотря даже на действительно явно ощущавшуюся всеми в предреволюционные годы и тем более позже, сконцентрировавшуюся в воздухе духовную тяжесть и мрак. А мне вовсе не хотелось довольствоваться разглядыванием картин под флёром. Сердце жаждало «живой жизни», реального узнавания глубинной правды о том, что хранилось в моей памяти: о предках, о бабушке тоже, а вместе с ними и о себе, как части целого под названием «род». Где только я не искала подходы к этим «правдам», а нашла, надеюсь, только в Боге…