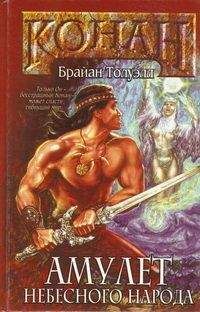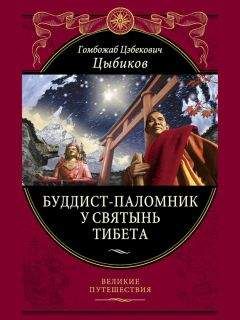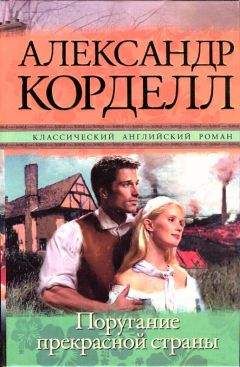На фотографии: семья Жуковских на веранде Ореховского дома. В верхнем ряду — Анна Николаевна Жуковская — матушка Николая Егоровича на девятом десятке жизни. Рядом с ней — Николай Егорович и гувернантка брата бабушки Шуры Микулина — он рядом с матерью — Верой Егоровной Микулиной, урожденной Жуковской (сестра Николая Егоровича). В нижнем ряду слева — Вера Александровна Микулина, сестра бабушки; а бабушка — Екатерина Александровна Микулина — крайняя справа. Снимок сделан еще до замужества сестер.
Конец детства
Когда бабушки не стало, я и не заметила, как нечувствительно оказалась в совершенно ином мире… Она никогда ни на кого не повышала голоса, в усталости не подавала виду, не жаловалась, не капризничала, не говорила никому резких и обидных слов — ни в лицо, ни заглазно, не отстаивала свои права, не упорствовала, никого не пыталась использовать, не желала ни над кем начальствовать, никого пригнетать и обременять, — у нее было какое-то удивительно благоговейное, святое отношение к свободе другого человека. При этом она и сама была очень независима. Это была квинтэссенция атмосферы семьи Жуковских, многоколенного принятого образа воспитания, семьи как родовой личности.
Думая о бабушке и пытаясь воскресить в памяти ее образ, еще много добрых черт ее просятся на бумагу. Однако прибавит ли это живости ее образу? Вот и сейчас, казалось бы, я иду в должном направлении, припоминая реально бывшее и очень достойное, но я чувствую, что бабушка в моем сердце почему-то не оживает. Она так далеко и я не могу даже протянуть к ней руку… И сердце мое почему-то молчит, свидетельствуя о том, что даже самого добросовестного, любовного и справедливого перечисления наипрекраснейших черт отнюдь не достаточно, чтобы действительно приблизиться духовно к таинственным глубинам человеческой личности другого.
«Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту роста его; Я отринул его; Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце» (I Цар. 16:7).
…И я стала думать, пытаясь собрать воедино — в одну точку — всю мою память о ней, ее след, ее образ живущий в моем сердце, — в его целостности и живости, в его самой глубинной точке.
И след этот, запрошенный у сердца, мгновенно «откликнулся» живым ощущением присутствия бабушки, и близости миров иных. «Я видел истину!», — восклицал у Достоевского «смешной человек». И мне тогда довелось «увидеть» ответ на свой запрос — им оказались не зримые — от ума — поистине редкие качества бабушкиного характера, но… боль ее сердца, оповестившая мне о приближении ко мне ее души, та самая боль, которая всегда была, как теперь это определилось, доминантой моего восприятия бабушки и моего отношения к ней.
Боль была средостением, проводником нашей близости, она связывала нас на самом глубинном уровне, который только возможен между людьми. Это был самый непосредственный и постоянный отзвук, образ и знак, — своего рода икона бабушки, и при жизни ее, в моем раннем детстве, и после ее кончины, и теперь — спустя почти полвека.
Вспоминая бабушку, я всегда ощущала, а поняла это только теперь, что эта боль и это страдание мое было ничем иным, как эхом ее глубокой, сокрытой ото всех боли. Это была любовь-жалость, со-болезнование, рожденное не от ума, не от рассуждений и оценок — какие оценки могли быть тогда, в самом раннем детстве?
Но именно тогда, каким-то таинственным образом душа моя — не рассудок, — знала, что ее нельзя обижать. Не бей лежачего, не обижай страдающего, не подбрасывай хвороста в костер другого, не улюлюкай у креста ближнего твоего, даже если этот ближний по всем параметрам безжалостного человеческого рассудка будет казаться тебе или сверхсильным, или «несомненно достойным своих мук»…
Не потому ли раньше, давным-давно, когда Русь была Православной, там не судили, а жалели арестантов, подавали нищим не с омерзением и потому что так, видите ли, «надо», не рассуждали не философствовали со страниц журналов о милостыне — этому дать — а этому не дать, но подавали потому, что от жалости разрывалось сердце, исполняя тем самым святоотеческий завет: подай, если попросит, и всаднику на коне (об этом писал в своих «Словах подвижнических» преподобный Исаак Сирин). Жалость была синонимом любви.
Из этого жгучего со-болезнования, со-страдания бабушке, а, потом, и всему ее миру), ее судьбе и ее близким (и моим тоже), ее времени и его мукам (они стали и моими муками), из-за неотвязного стремления понять тайну и смысл абсолютно наяву открывшегося мне духовного закона зеркального отражения, восчувствования боли другого и возможности только через это личностно соединяться с другою душою, преодолевая пространство и время, и зародилась когда-то весьма давно потребность написать эту книгу «Воздыхания окованных». Мне казалось, что именно так, и только так! — можно было бы послужить любимым усопшим (как близким, так и дальним, как кровно родным, так и душевно дорогим), предоставив им свое сердце и слово для выхода их еще не услышанных или просто еще не воспринятых, не опосредованных воздыханий.
Почему же все-таки бабушка, всегда ровная и спокойная, такая мужественная и благодушно-терпеливая в жизненных невзгодах, такая твердая в самодисциплине вызывала у меня эту бессознательную боль, сострадание и жалость?
Потому ли, что многие годы на моих глазах она тяжело болела и не роптала, а смиренно терпящий вызывает, ведь, еще более пронзительное сострадание: не по причине ли необъяснимого чувства вины перед страдающим? Словно он страдает вместо меня, и я, каким образом не знаю сам, все-таки, видимо, повинен в его страданиях.
Потому ли, что фактически она была брошена и забыта (кроме моей матери, благоговейно ее любившей и самоотверженно ей служившей) теми, кому она безотказно и искренно помогала, кто потом имел возможность и ей, столь нуждавшейся, помочь, но, увы… Потому ли, что она, всю жизнь подвижнически трудившаяся, сделавшая столько полезного и доброго, стольких людей выходившая, и своими трудами с любовью и щедростью прокормившая, своими любящими руками и мастерством спасавшая святые иконы и фрески в древнейших храмах нашей страны, — она не умела даже выхлопотать себе более или менее приличной пенсии, и крайне нуждалась, получая самую мизерную, какую только можно было представить в те пятидесятые годы.
Бабушка жила с моими родителями и со мной, и всеусиленно пыталась хоть чем-то помочь нашей семье: гнула спину над рукописями, которые за редкими исключениями, невозможно было, выражаясь в духе Пушкина, продать, а дорогие реликвии из семейного архива Жуковских со многою скорбью отдавала в музеи за сущие копейки (хотя кому они там на самом деле были нужны?!); задыхаясь от сердечной недостаточности, пыталась хоть что-то взять на себя и в обычной домашней работе.