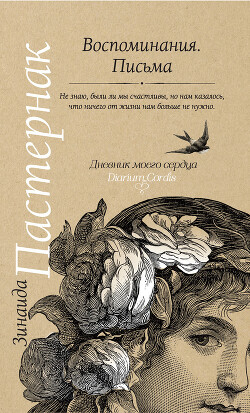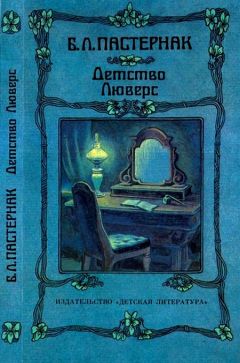была высокая температура. Я снова позвала Краснобаева и Ролье. Они недоумевали, откуда такая высокая температура, предполагали, что есть еще какой-то источник заражения, настаивали на тщательном исследовании и посоветовали поместить Адика в туберкулезный санаторий «Красная Роза» под Москвой.
Только через полгода, уже в 1940 году, с большим трудом удалось его туда устроить.
Сороковой год был на исходе, я переехала к Боре и Лене на дачу.
Восемнадцатого июня 1941 года Адику сделали операцию, вырезали в щиколотке косточку, надеясь, что температура упадет. После операции нас не пускали к нему четыре дня.
Двадцать первого днем к нам зашла жена Федина Дора Сергеевна и с ужасом на лице сказала, что вот-вот будет война с Германией. Как ни невероятно это звучало, но мы встревожились. Вечером я уехала из Переделкина с ночевкой в город, с тем чтобы рано утром быть у Адика. В городе я зашла к Сельвинскому и рассказала ему про слухи о войне. Сельвинский возмутился и назвал меня дурой. По его мнению, война с Германией совершенно недопустима, так как недавно с ней заключен договор.
Двадцать второго утром я с Генрихом Густавовичем отправилась навестить Адика. По дороге мы купили шоколаду, меду, цветов и вошли к нему в палату. Адик был очень бледен. Он рассказал, что три дня колотится головой об стену из-за страшных болей, но сейчас ему лучше. Он просил меня не волноваться, ему казалось, что опасность миновала. Мы посидели у него часа два и уже собрались уходить, как вдруг в палату прибежала сестра и сообщила страшную новость: по радио выступал Молотов, что объявлена война.
Как только я услышала о войне, я поняла, что это известие означает катастрофу для Адика и жить он не будет. Мы остались у него еще час и отправились в Москву, где я должна была купить продуктов для Бори и Лени. Город сразу изменился: магазины были пусты, появились длинные очереди за хлебом, все остальное исчезло, и мне ничего не удалось купить. Я приехала в Переделкино потрясенная и огорченная. Идя со станции домой, я встретила Сельвинского с чемоданом, они отправлялись в Москву. Поравнявшись со мной, Сельвинский сказал: «Какой ужас!» На что я ответила: «Кто дурак – неизвестно».
Боря уже знал о войне. Он утешал меня, говорил, что у нас свой огород и своя клубника и пусть меня не огорчает, что магазины пустые, – мы с голоду не умрем. Он был убежден, что война продлится недолго и мы скоро победим.
Ночью мы проснулись от безумного грохота, вся дача дрожала. Нам показалось, что это бомбардировка. Мы разбудили Ленечку, которому было уже три года, взяли его на руки и вышли на балкон. Все небо было как в огне. Мы побежали в лесную часть участка и сели под сосну. С трудом уговорили Стасика пойти к нам. Я укрыла Леню своим пальто, как будто это могло его спасти от снарядов. Наутро мы узнали, что это была репетиция, но до сих пор я в это не верю, потому что во дворе у нас валялись осколки.
Тут же издали приказ о затемнении, в Переделкине создали дружину, которая проверяла светомаскировку. Лампочки выкрасили в синий цвет, на окна повесили ковры и занавески. Боря перебрался из своего кабинета к нам вниз. Был издан приказ рыть на каждом участке траншею. Мы с Фединым решили рыть общую на нашем участке. Эту работу мы выполнили довольно быстро. О тревоге извещали со станции, там били в рельсу. Она была плохо слышна, и мы с Борей устроили дежурства. Сначала Боря спал, в три часа я его будила и ложилась, а он сменял меня. Все это было не напрасно: в рельсу били каждую ночь. Мы укутывали Леню в одеяло, будили Стасика и шли к Фединым. Если мы долго не показывались, Федины приходили к нам. Налетов пока не было, и убежищем мы не пользовались. Федин и Боря обсуждали события и удивлялись быстроте передвижения немцев. Они шли катастрофически быстро и к началу июля были уже в 250 километрах от Москвы.
В Литфонде организовали комиссию по приему писательских детей в эвакуацию. Боря настаивал на необходимости вывезти Стасика и Леню, а у меня душа рвалась к третьему сыну, который лежал после операции в санатории в беспомощном состоянии. Но Боря дал мне слово, что он будет часто навещать Адика и рассказывать ему, как горько я плакала и не хотела уезжать из-за него. Он говорил, что для маленького Лени ночные переживания, связанные с тревогой, вредны и надо спасать здоровых детей. Вместе с детьми могли ехать только матери, у которых были малыши не старше двух с половиной лет. Леня по метрике был старше. Мне стоило большого труда уговорить домоуправа дать справку о том, что возраст у Лени указан неверно. Я пришла в Литфонд и сказала, что они не пожалеют, если возьмут меня, и я готова, засучив рукава, выполнять любую работу, какая потребуется в эвакуации. Немцы приближались, и мы должны были срочно выезжать специальным поездом в Казань. Трудно и тяжело было расставаться с Борей. Он провожал нас на вокзал [74], вид у него был энергичный, он подбадривал нас и обещал впоследствии к нам приехать. Сердце мое разрывалось на части. За Борю и Адика было неспокойно, так как налеты учащались и в Москве оставаться было опасно. Я чувствовала себя преступницей перед Адиком, но меня уговаривали уехать, успокаивая тем, что санаторий тоже будет организованно эвакуирован. Особенно тяжелым было расставание Бори с Леней, которого отец обожал. Последний раз прижавши сына к груди, он сказал, как будто Леня все понимает: «Надвигается нечто очень страшное, если ты потеряешь отца, старайся быть похожим на меня и твою маму».
В дорогу не разрешалось брать много вещей, но я захватила Ленины валенки и шубу и завернула в нее Борины письма и рукопись второй части «Охранной грамоты»: они были мне очень дороги, и я боялась, что во время войны они пропадут. Благодаря этому письма и рукопись уцелели.
Я ехала в одном купе с Наташей Треневой [75], которая везла маленького Андрюшу, сына Павленко. Стасика поместили в другом вагоне вместе со старшими детьми. Всего эвакуировалось двести ребят. Сразу стало ясно, что малыши нуждаются в помощи и рук не хватает. Засучивши рукава, я принялась помогать с самой большой добросовестностью. Приходилось умывать детей и кормить их. Несмотря на то что в Москве был голод, продуктов для детей везли