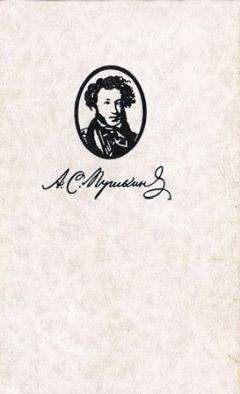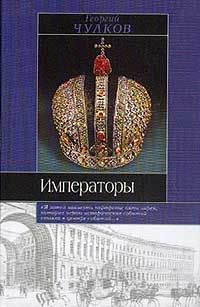Ознакомительная версия.
Постукивая тростью, я зашагал к Неве. На Дворцовом мосту я уже уверял себя, что мои дела так или иначе должны поправиться. Рассчитывать на то, что «Новый путь» изменит свою политическую программу или что «Русское богатство» будет печатать декадентские стихи, конечно, было бы безрассудно, но я не склонен был унывать и на что-то надеялся.
Мой тогдашний литературный стаж был невелик — два-три рассказа, напечатанных еще до ссылки, и лирическая книжка «Кремнистый путь» с безвкусной, на мой теперешний взгляд, декадентскою обложкою, где был воспроизведен рисунок знаменитого Франца Штука[142] — голый человек, кричавший во все горло. Но тогда я совершенно не стыдился этого голого крикуна.
Я вспомнил, что в «Новом пути» появилась месяца за два до того благосклонная статья о моей книге, написанная Allegro (П. С. Соловьевой).[143] Руководителем «Нового пути», как известно, был Д. С. Мережковский[144] и его супруга З. Н. Гиппиус.[145] Брюсов, когда я проездом через Москву зашел к нему, говорил мне, что чета Мережковских справлялась обо мне, кто я такой и не намерен ли я поселиться в Петербурге. Валерий Яковлевич настойчиво рекомендовал мне познакомиться с Мережковским, уверяя, что такое внимание к начинающему писателю со стороны литературных генералов большая честь. Но я тогда, по дикости своего нрава, не ценил никаких генералов — в том числе и литературных.
«А пойти к Мережковским все-таки, пожалуй, можно, — думал я, — журнал мне не нужен, но люди они своеобразные. Надо их послушать и на них посмотреть».
Недели через две после этих размышлений я отправился вечером в дом Мурузи, который оказался в двух шагах от моей квартиры на Литейном проспекте. Приняла меня Зинаида Николаевна.
Узнав, что я в Петербурге уже две недели, она тотчас же стала упрекать меня за то, что я медлил к ним явиться.
— Вам ведь говорил Брюсов, что я хочу с вами познакомиться?
— Говорил.
— Почему же вы не шли к нам?
— Сам не знаю, почему, Зинаида Николаевна. Человек я дикий.
— Ах, я сама дикая.
Она полулежала на кушетке, дымя тоненькой дурманной папироской. В полумраке гостиной ей нельзя было дать и тридцати лет, а ей было тогда под сорок. Я смотрел на нее, и мне казалось, что я как будто где-то видел это лицо — эти рыжеватые волосы, русалочьи глаза и большой нескромный рот.
Она болтала со мною просто и непринужденно, заметив, должно быть, мою застенчивость и стараясь меня ободрить. Время от времени она, впрочем, сбивалась с дружеского простого тона, и я чувствовал когти в бархатных лапах умной тигрицы.
— Мне говорили, что вы ужасный ре-во-лю-цио-нер! — протянула она, вооружившись лорнеткой и довольно бесцеремонно меня разглядывая. — А я, представьте, почти не встречалась с этими людьми… Говорят, что вас высылали куда-то в Сибирь, очень далеко… Вы ездили на собаках… Это, должно быть, очень смешно ездить на собаках? А? Вы жили в тайге? Расскажите про тайгу…
Эта тема была мне по вкусу. Я тогда еще не был свободен от таежных чар и мог часами рассказывать о лесных озерах, о шаманах, о снежной пустыне, мне полюбившейся…
Кажется, эти рассказы увлекли мою собеседницу. И когда на пороге, шаркая туфлями, показался Дмитрий Сергеевич, она ему крикнула, смеясь:
— Иди скорей. Тут у меня сидит ре-во-лю-цио-нер. Он тут очень интересные сказки рассказывает…
Мы перешли в столовую пить чай.
— Вы следили за нашим «Новым путем»? — допрашивал меня Мережковский, разглядывая меня пристально и несколько бесцеремонно, как и его супруга.
— Да, следил и слежу с немалым интересом.
— И вас не пугают наши религиозно-философские искания? Революционеры ведь все атеисты.
— Нет, это меня не пугает. Меня другое смущает в вашем журнале.
— А что же именно?
— Ваши политические статьи и вообще ваша философия истории. Тут у вас безнадежные противоречия и какая-то странная путаница. Иногда все это сбивается на очень банальную реакционность.
— Ах, какой вы откровенный! — засмеялась Гиппиус. — Это мне нравится, что вы так прямо.
— Я вас предупреждал, что я варвар и не умею хитрить.
— Оставь, Зина, — завопил Мережковский, широко раскрывая рот и чуть картавя. — Дай ему высказаться…
И я высказался. Мережковские слушали меня очень внимательно.
Когда я кончил мой монолог, похожий на обвинительную речь по адресу «Нового пути», Мережковский, переглянувшись с женою, вдруг сказал:
— Я вас приглашаю принять на себя обязанности секретаря нашего журнала.
— Как секретаря? — удивился я. — Вы хотите, чтобы я исполнял обязанности технического секретаря, не вмешиваясь в редакционные дела?
— О, нет. Вы будете нашим ближайшим сотрудником.
— Вы смеетесь, Дмитрий Сергеевич? Я вам только что изложил все мои с вами разногласия, а вы предлагаете мне войти в журнал.
— Да, предлагаю. Дело в том, что те политические тенденции, какие иногда сказываются в нашем журнале, нам самим опостылели. Журнал надо очистить от этого полуславянофильского, полуреакционного наследия…
— Но я не могу сотрудничать с таким-то и таким-то…
— Они уйдут.
— Но у вас самих, Зинаида Николаевна, и у вас, Дмитрий Сергеевич, могут быть такие уклоны, какие для меня окажутся неприемлемыми…
— Мы вам предоставим право вето.
Я не ручаюсь, конечно, за буквальную точность выражений, но сущность тогдашней моей беседы с Мережковскими была именно такова.
Одним словом, в какие-нибудь два-три часа определилась моя судьба. Я согласился на предложение Мережковских. Я стал ближайшим сотрудником «Нового пути». Мне тогда не было и двадцати пяти лет, и легко представить, как трудно мне было очистить трюм журнального корабля и взять в свои неопытные руки ответственное кормило. Но я скоро освоился с журнальным ремеслом и внушил такое доверие Мережковским, что они преспокойно уехали за границу, оставив «Новый путь» на мое попечение.
Положение редактора вообще незавидно. Даже авторитетные и заслуженные писатели, попадая в положение редактора, вызывают на себя нарекания со всех сторон. Все считают своим долгом критиковать и осуждать: читатели, публицисты и критики иного лагеря, а также и своего собственного, обиженные авторы и даже товарищи по редакции. А ведь всем не угодишь. Самое трудное и жуткое дело — авторское самолюбие.
Мое положение было невыносимо, ибо прежде всего я занимал место не по заслугам. Я был еще слишком молод. Одна книжка стихов и несколько рассказов не давали мне еще права быть руководителем такого журнала, как «Новый путь». Ответственный редактор, Д. В. Философов,[146] был пассивен, а наш ежемесячник был слишком на виду. Журналы всех направлений травили его, как могли. Консервативный «Русский вестник»[147] доказывал, что мы страшные карбонарии и анархисты; «Русское богатство» уверяло, что мы ревнители самой ужасной реакции… После моего вступления в редакцию не было поводов для упреков в политической и социальной реакционности: придраться было не к чему. Но самые религиозно-философские темы, интересовавшие нас, были, как известно, под запретом русского либерализма.
Ознакомительная версия.