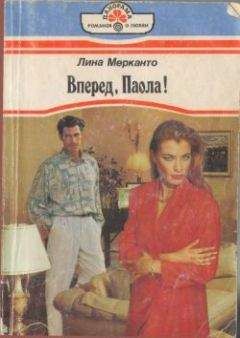Кажется, я Вас люблю немножко.
И я хочу лунными пейзажами любоваться с Вами, а не с кем-нибудь
другим.
Вот и все.
Целую.
А. Т.
PS. Все Тарусские новости Вам расскажет Бугаевский. У Тауберга
большие огорчения. Я сочувствую ему со всей силой.
Приезжайте.
Вас здесь все любят.
Т.
Осенью 1937 года, когда Тоня была на сносях, они с Арсением поселились в ее квартире в Партийном переулке. Муж Тони Владимир Тренин благородно ушел из дома, оставив жилье жене. [22]
В конце декабря Тоня в тяжелом состоянии попадает в роддом. Когда стало немного легче, она посылает Арсению записку:
Детка моя, лежу я в 7 палате на 3 этаже… В комнате нас 11 человек. Все противные бабы. Хорошо бы книжку какую-нибудь…
И еще:
Солнышко мое. Всю ночь вереницей шли сны. Шли сны разные, были люди близкие, были давно забытые, какие-то события потрясали мир. Приходил Аркадий [Штейнберг] и говорил, что он свободен. Валя, с огромным животом, указывала на меня и кричала: «Вот она знает, как убивать детей».
Сон оказался отчасти пророческим – у Тони родились недоношенные девочки, одна из которых появилась на свет мертвой, а вторая прожила лишь несколько дней. Роды случились перед самым новым, 1937-м, годом.
Это все такой ужас, такая безумная боль и такие ненужные страдания, что я и думать не хочу, – пишет она Арсению. – Лучше сломанные ноги, руки, что хотите, только не тот бред, который происходит в родильном доме. Ну, я больше не буду! Прошло уже. Теперь я Вас буду только любить…
В ответ Арсений пишет:
Девочка моя, родная моя. Как ты себя чувствуешь? Теперь уже – кончилась твоя мука и верно тебе уже совсем хорошо? Напиши, ласанька. Какая температура? Как тебе?.. Я очень тебя люблю. Вчера я смотрел в твое окошко, оно выходит на 3 этаже во двор, с другой стороны, но ты не показалась. А сейчас я не пойду туда, под твое окно, чтобы ты не выглянула, тебе, должно быть, надо лежать. Когда тебе позволит доктор вставать с постели, ты мне напиши об этом и тогда выглянешь. Чего тебе принести, моя девочка?..
Но это – письма, написанные в экстремальной ситуации. Несколько лет повседневной жизни все переменили. Появились обиды, раздражение, подозрения… Порой ссоры были очень сильны. В 1939 году Арсений и Тоня даже расстались на несколько месяцев. В одном из писем этого периода она писала:
Я думаю о Вас постоянно и постоянно мне хочется поговорить с Вами, поэтому я часто Вам пишу, еще чаще я с Вами разговариваю. Это всегда очень интересные разговоры, где Вы говорите то, что мне хочется. В сегодняшнем разговоре с Вами я выяснила, что я Вас очень люблю, гораздо больше, чем Вы меня, но так как последнее утверждение не является окончательным, то я решила написать Вам вот что: может быть, Вы, если Вы действительно меня любите, вернетесь ко мне… Я думаю о том, какая хорошая могла бы у нас быть жизнь, и мне делается бесконечно больно. Что было в нашей жизни, что Вас так мучило? Я не знаю. Ваша ревность никогда не имела никаких оснований. Когда мы были вместе, мне иногда казалось, что, может быть, Вы правы и что меня действительно нельзя выпускать на улицу. Что от меня надо убирать гривенники. А сейчас я вижу, что нет и не было на свете женщины честнее, порядочнее и вернее меня. Я хожу по улицам, я бываю у Инки, я живу в одной квартире с Лялиным папой [23] и у меня нет не только каких-нибудь неблаговидных поступков, а даже и мысли все чисты и безупречны.
Я хочу хорошей жизни. С доверием, с любовью, с откровенностью. Я ничем Вас не обижала. Если обижала – забудьте, как я забыла все обиды Ваши. Подумайте над этим и сделайте так, как Вам лучше. Только не надо, чтобы были надрывы, чтобы Вы думали: вот я сказал, что не вернусь, и «не вернусь ни за что», или «я вернусь во что бы то ни стало нести свой крест». Нет, мне надо, чтобы все было спокойно. Если Вы меня любите по-настоящему и хотите действительно быть мне не только мужем-любовником, а и другом – вернитесь, нет – живите иначе…
В другой раз она пишет Арсению отчаянное письмо (оно датировано 16 марта 1939 года, когда он находился в Ленинграде и лежал в больнице имени Боткина), которое, несмотря на категоричный тон, скорее свидетельствует о стремлении избежать разлуки с любимым человеком:
Я все знаю и все, что Вы можете мне написать, и все, что Вы можете мне сказать. И все это неважно. Я Вас люблю так же, как и Вы любите меня и этого у меня никто не отнимет. И это – единственное важное. А будем ли мы вместе жить или не будем, будем ли встречаться или не будем – я об этом не думаю. Я Вас, очевидно, люблю так сильно, что всё, что не любовь к Вам, – меня не интересует.
Это все. Больше я Вам писать не буду, если у меня не будет какого-нибудь дела, и Вы не пишите мне.
Мне легче придумывать хорошее, когда Вы меня не обижаете. Хотя нет, Вы пишите – я не могу не знать, что с Вами.
Что Вы меня любите – я знаю, об этом не пишите, что Вы ко мне не вернетесь – тоже знаю. И что Вы меня будете любить еще долго – тоже знаю.
Пишите, как Вы живете, пишите, как чувствуете, как работаете,
когда будете работать.
Об этом я Вас прошу – Вы это сделайте.
Все, что Вы захотите от меня – если захотите, – сделаю я.
Вот и все. Целую Вас.
Тоня.
Арсений вернулся.
Возможно, Тоня понимала его лучше других женщин. В сентябре 1939-го она писала Тарковскому:
Если бы все зависело от моего желания, так я бы сказала, что я хочу жить с Вами, я хочу знать, что с Вами, я хочу Вас видеть, я хочу знать, что Вы мой родной и самый близкий, но я знаю, что всего этого для счастья мало. Что есть еще много мелочей, которые раздражают, мучают и убивают не только счастье, а даже и любовь.
Еще два года они жили вместе, затем началась война. Он ушел на фронт, а когда после боев, ранения и госпиталей окончилась его война, довольно скоро распалась и вторая семья.
Когда возвратимся домой после этой неслыханной бойни,
Мы будем раздавлены странным внезапным покоем.
Придется сидеть да гадать: отчего мы не стали спокойней?
Куда уж нам петь или плакать по мертвым героям!
А наши красавицы-жены привыкли к военным изменам,
Но будут нам любы от слез чуть припухшие веки,
И если увижу прическу, дыша свежескошенным сеном,
Услышу неверную клятву: навеки, навеки…
Нет, места себе никогда не смогу я найти во вселенной,
Я видел такое, что мне уже больше не надо
Ни вашего мирного дела (а может быть – смерти мгновенной?),
Ни вашего дома, ни вашего райского сада.
Увы, «сад» коммуналки в Партийном переулке был совсем не райским… «Удобства» (то бишь туалет) находились во дворе, и Арсению приходилось ковылять туда на костылях.
К концу 1944 года отношения с женой вступили в ледниковый период; комнату разделили дощатой перегородкой – одна половина Арсению, другая – Тоне. Иногда приходил ее новый друг, оставался ночевать. Арсений лежал с открытыми глазами, бессильно сжимая кулаки. Ему уже не раз намекали, что он должен поискать себе другое жилье.
Позднее он жаловался: «Полгода такой жизни, и из ягненка сделали бы тигра».
Передышку от московского быта давала выездная работа над переводами. В 1945-м – несколько месяцев в Тбилиси, где он жил у поэта Симона Чиковани («немного лобио, немного сухого вина»), в 1946-м – Ашхабад, гостиница, дикая жара и много коньяка.
Спустя 20 с лишним лет Тарковский спросил своего молодого друга поэта и переводчика Михаила Синельникова: «Какое ваше представление о счастье?» И, не дожидаясь ответа, сказал: «А мое – в раскаленной ашхабадской гостинице сидеть в ледяной ванне, и чтобы весь пол был покрыт дынями, и время от времени подкатывать к себе еще одну, резать и есть… И так я жил в Ашхабаде и переводил Махтумкули».