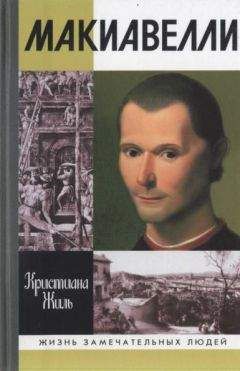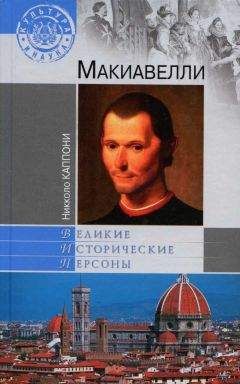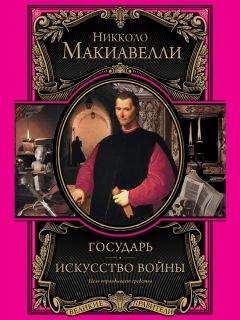«Ты будешь сколько возможно выказывать наше доверие и надежды, которые мы возлагаем на Его Светлость…» Слова, одни слова, ничего, кроме слов, в багаже секретаря. Любые слова, кроме тех, которых вправе был ожидать герцог Валентино после того, как в течение многих месяцев требовал не только заключения союза по всей форме, но и кондотты, поскольку сейчас он больше, чем когда-либо, нуждался в деньгах.
«…Ты не перейдешь указанных границ и не станешь говорить по-другому и о другом». Связанному по рукам и ногам Никколо предлагалось в который раз отличиться в искусстве уклоняться от прямых ответов и лукавить с человеком, которому, в чем Никколо уже имел возможность убедиться ранее, о противнике известно абсолютно все.
Но в кои-то веки промедление было вполне оправдано.
С одной стороны, коли уж овцы и в самом деле взбесились, они, быть может, и смогут победить волка. При одном только известии о союзе в Маджоне Романья восстала, а Сан Лео, крепость в Урбино, о которой Данте говорил, что нет на земле более суровой твердыни, сама сдалась мятежникам. Быть может, совсем немного времени оставалось до того момента, когда под ликующие крики подданных Гвидобальдо да Монтефельтро сможет вернуться на родину.
С другой стороны, необходимо было узнать, намерен ли король Франции потопить плот Чезаре в случае, если тот потерпит крушение. Людовик XII симпатизировал Гвидобальдо да Монтефельтро и еще в большей степени — синьорам Болоньи и Сиены; кроме того, его не могло не тревожить расширение — через Чезаре — власти папы. Да, это был главный вопрос: что будет делать король? Следовало дождаться ответа. Позиция разумная, но опасная, поскольку герцог Валентино, безусловно, потребует немедленного принятия жизненно важного для себя решения.
Что вынесет для себя Макиавелли из этой трудной миссии, за результаты которой он на сей раз несет единоличную ответственность? Ничего, кроме возможности занять место в первых рядах театра Истории и приблизиться к самому замечательному человеку своей эпохи в канун его возможного падения.
* * *
Никколо ожидал встретить в Имоле озабоченного, встревоженного и подавленного герцога. Сведения, которые посланец собрал по дороге, свидетельствовали о вспышках недовольства на всей занятой территории, так что капитаны герцога получили приказ отступить, занять несколько линий обороны и сгруппировать гарнизоны, чтобы не позволить им дезертировать или перейти на сторону неприятеля.
Однако Чезаре не проявлял ни малейших признаков беспокойства и, кажется, вполне владел собой. Он раскрыл Никколо объятия, словно старому другу, которого с нетерпением ждал, чтобы продолжить разговор, начатый накануне: «Я хочу доверить тебе то, о чем еще не говорил никому…» Что это, игра, цель которой — очаровать и соблазнить посланника, который, как он надеется, сможет повлиять на Синьорию и помочь заключить настоящий союз? Или его привлекают ум, светящийся в глазах секретаря, ирония, таящаяся в уголках улыбающегося рта? Или одиночество так тяготит этого отшельника, что ему необходимо хоть с кем-нибудь поделиться своими тайнами?
Как бы то ни было, на первой их встрече Никколо пришлось долго выслушивать сетования герцога. Вот, вкратце, что он сказал: «Я не таков, как обо мне думают, и Флоренция неправильно судит о моих намерениях; она напрасно меня боится, потому что я всегда защищал ее и продолжаю защищать от действий других, несмотря на неслыханное давление. Сколько раз, когда мы были в Тоскане, Орсини и Вителли умоляли меня напасть на Флоренцию или Пистойю, они утверждали, что захватить их будет так легко! Я никогда не соглашался на это, напротив, я всегда говорил, что в случае необходимости воспрепятствую этому с оружием в руках! Именно за это они и хотят отомстить мне… Вителли не может мне простить, что я вынудил его оставить Ареццо, а Орсини — что я не вернул во Флоренцию Пьеро Медичи[28]…»
Никколо, которого пытаются убедить в том, что герцог Валентино является спасителем Флоренции, слушает спокойно. Ему хочется проникнуть в тайные замыслы этого человека. Коль скоро Чезаре расположен к откровениям, искренним или лживым — неважно, Никколо решается спросить:
— А герцогство Урбино? Оно почему восстало, в чем причина?
— В моем великодушии! Я был слишком великодушен, слишком добр и недооценил ситуацию. Я завоевал это герцогство за три дня, как тебе известно, и ни с кого не спустил шкуры… Я пошел еще дальше и назначил на государственные должности кое-кого из местной знати… и именно они меня и предали.
Никколо запомнил урок: опасность великодушия!
— Ну полно, это все пустое! Пусть будет, что будет, — вдруг бросил Чезаре и добавил: — Я все исправлю.
Он и раньше утверждал, что знает секрет, как отвоевать Урбино, коль скоро ему случится его потерять… Никколо в восхищении. Вот она, доблесть великого полководца, — умение владеть собой и событиями, которое позволяет направлять их ход.
Два дня спустя, во время поздней, как всегда, беседы (Чезаре вел ночной образ жизни) герцог не сменил тактику, но действовать стал гораздо жестче. Его удары стали точнее, однако рука, их наносившая, по-прежнему притворялась дружеской. Он повторяет, что свободу Италии попирают Орсини и их приспешники, что освободитель — это он, Чезаре Борджа. Король Франции прекрасно это понял и отвернулся от мятежников. «Смотри, секретарь…» — и герцог потрясает письмом папского легата при французском дворе. Людовик XII дает ему знать, что не возражает более против осады Болоньи и предоставляет в его распоряжение триста копий[29].
— Ты понимаешь, что это уже не шутки! Подумай, что я получу для защиты от этой банды, большинство членов которой его величество относит к числу своих врагов!
Чезаре хочет, чтобы Флоренция поняла: король будет считать Республику своим врагом, если та не присоединится к нему, к Борджа. Он утверждает, что почти желал этого гибельного мятежа:
— Я не мог и мечтать о вещи столь полезной для того, чтобы утвердиться в моих владениях, ибо отныне я буду знать, кого мне опасаться, и научусь распознавать друзей… Я говорю об этом сейчас и день за днем буду поверять тебе все, что случится, чтобы ты смог написать об этом своим синьорам, дабы они поняли, что я не собираюсь сдаваться и у меня достаточно друзей, в числе которых я хотел бы видеть и синьоров. Пусть только они мне без промедления дадут знать о своем решении; если они не сделают этого сейчас, я оставлю их в покое, и даже если стану тонуть, не заговорю более о дружбе…
Чезаре раскрыл свои карты с хорошо рассчитанной честностью. Доклады Никколо были объективны только на первый взгляд. Отводить в письмах много места словам герцога значило вносить жизнь и краски в приводимые доводы, делать их более убедительными. Одно дело прочесть: «герцог угрожает нам…» и другое — услышать, как он произносит угрозы. Никколо открыл в себе талант драматурга.