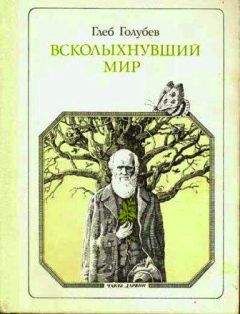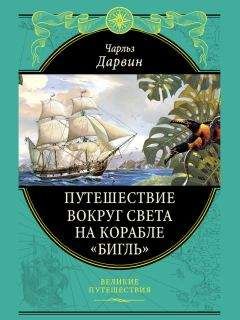Но Дарвин работает так тщательно и неторопливо, словно нет у него никаких отвлекающих забот. В 1842 году на 35 страничках первой подвернувшейся под руку мятой бумаги он бегло набрасывает возникшие у него идеи ужасающим своим почерком. («Не знаю, может ли человеческое существо понять или прочесть эти бессовестные каракули».)
Это чисто рабочая запись, только для себя. Он ее никому не показывает, засовывает рукопись куда-то под лестницей в шкаф и забывает о ней. Там ее случайно найдут только через четырнадцать лет после его смерти. Набрасывая ее, Дарвин просто прояснил свои мысли, уточнил еще остающиеся темными места и занялся их обдумыванием.
Кажется, с причинами совершенствования и удивительной приспособленности видов он наконец разобрался. Помогли достижения селекционеров. («Я уверен, что все абсурдные взгляды происходят от того, что никто, насколько я знаю, не подходил к вопросу с точки зрения изменения под влиянием одомашнивания и никто не изучал всего, что известно относительно одомашнивания».)
В огородах и на полях, на фермах и голубятнях растения и животных изменяют, совершенствуют по своему желанию люди, умело применяя искусственный отбор. А в дикой природе то же самое делает отбор естественный - борьба за существование. Выживают лишь те, кто лучше приспособлен к данным природным условиям. Их потомство процветает и размножается. Неприспособленные беспощадно бракуются природой и погибают.
Изменятся природные условия или часть животных какого-то вида (теперь ее называют популяцией) очутится в новых местах - и беспощадный экзамен приходится держать заново.
Вот она, долгожданная разгадка поразительной приспособленности дарвиновых вьюрков! Неизвестно, чем питались - зерном или насекомыми - их предки, несколько птичек, когда-то занесенных на Зачарованные острова бурей с материка. Невольные переселенцы размножались, пока им хватало пищи. А затем начал действовать суровый, неумолимый естественный отбор.
Зерна или насекомых уже не хватало на всех. Но еще оставались шансы выжить для тех птиц, которые по счастливой случайности могли разнообразить свой корм: разгрызать твердые орешки или вытаскивать личинок из щелей в древесных стволах. И постепенно стали возникать разновидности вьюрков, отличавшиеся прежде всего клювами, более подходившими для добывания различной пищи.
Как потом выяснят ученые, эта эволюция коснулась даже инстинктов, привычек птиц! У дятловых вьюрков нет ни крепкого или тонкого и острого, как шило, клюва, ни длинного языка, с помощью которых они могли бы добывать насекомых из-под коры. Но этот вид отличается умением пользоваться орудиями! Оно возникло в результате многовекового отбора на сообразительность. Обнаружив под корой дерева или в какой-нибудь щели лакомое насекомое, дятловый вьюрок берет в клюв иглу кактуса подлиннее и тычет ею в щель, пока не выгонит добычу из укрытия. Тогда он бросает иглу и хватает насекомое. Некоторые дятловые вьюрки - видимо, наиболее смышленые - даже заранее готовят запас иголок, чтобы в нужный момент не искать их, а сразу воспользоваться своим арсеналом!
Как заинтересовался бы и обрадовался Дарвин, узнав об этом. Но и то, что он выяснил, уже позволяет ему твердо утверждать: все обошлось без божественного вмешательства, без хлопот Бесконечной Мудрости, - и это гораздо сложнее, прекраснее, замечательнее, чем наивные выдумки о мистическом стремлении к совершенствованию. («Есть величие е этом воззрении на жизнь...»)
Но возражений его идеи встретят куда больше, чем всеми осмеянные «бредни Ламарка», это Дарвин прекрасно понимает. Над Ламарком потешались ведь все же довольно добродушно. Он все-таки не отрицал целесообразности в природе, оставляя лазейку для Бесконечной Мудрости. А теория естественного отбора упраздняла творца совсем. И бог, и мистическая Мудрость становились для развития жизни попросту не нужны.
Дарвин знает, что, отстаивая свои еретические идеи, ему придется очень нелегко. Он еще не обнародовал их, только осторожно делится некоторыми мыслями в письмах и беседах с друзьями. Но уже появляются грозные зарницы надвигающейся бури...
«...Я отнюдь не был уверен в том, что, узнав, к чему клонятся мои воззрения, Вы не сочтете их столь опрометчивыми и глупыми, - пишет он американскому ботанику Аза Грею, - (видит бог, я пришел к ним достаточно долгим и, надеюсь, честным путем), что в дальнейшем откажете мне в своем внимании и помощи. Вот Вам пример: когда я в последний раз видел моего старого испытанного друга Фоконера, он напал на меня и с горячностью, хотя и вполне доброжелательно, сказал мне: «Вы причините больше зла, чем любой десяток натуралистов сумеет принести пользы»... Если я подвергаюсь столь ожесточенным нападкам со стороны моих стариннейших друзей, нет ничего удивительного, что я постоянно ожидаю, что мои взгляды будут встречены с презрением».
Отступать он не собирается. Но укрепить свои позиции и сделать их несокрушимыми - надо. И он продолжает работать: собирать новые факты, обдумывать, уточнять.
К тому же ведь остается еще неясной, не разгаданной до конца другая главная загадка. За нее упорно цепляются защитники неизменности видов. Где же в самом деле прямые, неопровержимые доказательства превращения одного вида в другой? Куда деваются промежуточные, переходные формы? Ведь они должны быть обязательно! Почему же их нет?
Дарвин уже понимает, в чем главная причина этого. Процесс эволюции - медленный, растянут на века и тысячелетия. Изучающим его нельзя рассчитывать на то, будто удастся наблюдать сколько-нибудь заметные перемены собственными глазами на протяжении своей жизни. Ученым приходится восстанавливать ход эволюции косвенным путем, с помощью логических умозаключений. И никаких экспериментов не поставишь.
Ламарк привел в одной из статей хороший пример: существу, живущему лишь секунду, часовая стрелка покажется неподвижной, навсегда застывшей в одном положении. Так и виды. Их превращения происходят слишком медленно для того, чтобы мы могли их заметить. Но множество фактов из сравнительной биологии, эмбриологии, палеонтологии эти перемены подтверждают.
А человек сознательным, искусственным отбором способен ускорять этот процесс. За сравнительно ничтожное историческое время он вывел столько удивительных пород нужных ему животных и растений. Порой они отличаются друг от друга больше, чем различные виды.
Дарвин уже догадывается, куда исчезают промежуточные формы, почему их нет: они еще плохо приспособлены к изменившимся природным условиям, и селекционеры и природа беспощадно выбраковывают, уничтожают эти пробные варианты. К тому времени, когда создание нового вида бывает завершено, они уже все вымирают. («Я точно помню то место дороги, по которой я проезжал в карете, где, к моей радости, мне пришло в голову решение этой проблемы».)