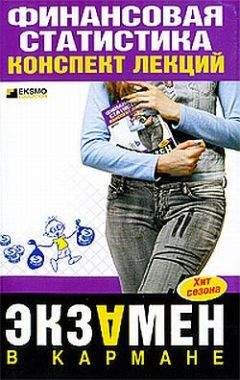Отец ни за что не хотел их снять, несмотря на все мои убеждения и уговоры, несмотря на указания на то, что дом наш — собственно общественное место: каждый прихожанин может сюда по духовной нужде зайти…
На все доводы отец отвечал на своем обычном хохлацко-русском диалекте: «Мы жили, пока они были. Теперь и им, и нам — конец!»
Семинарию он кончил и историю французской революции знал и, к сожалению, оказался пророком: если он умер своей смертью и похоронен достойно, то единственно потому, что приход его остался в той части пограничной Волыни, которая отошла к Польше.
Но портреты он вскоре все же снял. И не потому, что я его убедил. В одно из воскресений, по более чем двадцатилетней привычке, он, на литургии, сам того не замечая, провозгласил моление о «Благочестивейшем, Самодержавнейшем…», «О Супруге его…», «О матери Его…» и о «Всем Царствующем Доме» — даже безмерное удивление и ужас в глазах дьячка не остановили его.
И произошел скандал. Возмутились не прихожане, которые в большинстве (в принципе) ничего не имели против монархии и жалели, что Михаил отказался; шумели случайно зашедшие в церковь солдаты стоявшей в окрестностях города кавалерийской (кстати, гвардейской, это была прифронтовая полоса) части. По счастью, дьячок оказался настоящим Златоустом и диалектиком и разъяснил возмущенным воинам, что двадцать лет повторяя одно и то же чуть не каждый день, — человек, естественно, не может вникать во все слова и произносит их автоматически, и то, что батюшка сейчас всенародно провозгласил моление о царе, как раз и показывает, что он о них по-настоящему и не молился, то есть «имел их в уме, а не в сердце».
Не развращенные еще ни «классовой ненавистью», ни местью марксистской революции, солдаты объяснением удовлетворились, посоветовали «попу» быть осторожнее и ушли, бряцая шпорами, все еще подтянутые и на все пуговицы застегнутые…
Но на всякий случай отец портреты снял.
Весна 1917 года. Никакие думские стенограммы, ни точные записи дневников самых умных и самых проницательных — не воскресят того, что было на самом деле. Для того, чтобы с горькой нежностью вспоминать весну 1917 года совсем не обязательно быть революционером, но обязательно не быть реакционером и пережить эту весну самому. Ведь поначалу она была не революцией, а освобождением! Освобождением от давно себя изжившего, мешавшего не только врагам монархии, но и ее друзьям, настолько неумного и нелепого строя, что в век индустриализации министр «торговли и промышленности» хвастался тем, что никогда не снизошел до рукопожатия с каким-нибудь «толстосумом»! И даже, бесспорно, человек незаурядный С. Ю. Витте говорил об этом секторе российского общества в выражениях скорей «феодальных» (хотя на Портсмутской конференции, чтобы расположить к себе американцев, специально пожал руку машинисту привезшего его поезда).
Освобождение живого, бурно развивающегося организма от прижимавшего его к земле трупа не могло не быть радостным, даже если таило в себе опасную неизвестность. Особенно для той молодежи, за спиной которой не было ни поместий, ни привилегий, ни заменяющих отчасти и то и другое мешков с золотом, ничего — кроме возможного в ближайшем будущем диплома Высшей школы, обеспечивавшего безбедную жизнь при всяком нормальном строе — в те времена с дипломами сидели без работы только те, кого наследство богатых отцов освободило от малых трудов или кто их не хотел и не искал…
Не собиравшийся и при царском режиме идти на коронную службу, мечтавший об адвокатуре и общественной карьере в столице — конечно, Петрограде, — я как будто не должен был бы особенно опасаться дальнейшего развития российских потрясений, если бы не боязнь за стабилизацию фронта, с таким трудом достигнутую, и отсутствие уверенности в том, что якобинские безобразия для нас этап не обязательный, что если «Великая и Бескровная» и была только довольно пошлой интеллигентской декламацией, то все-таки «малой кровью» кронштадтских офицеров и петроградских полицейских обойтись, может быть, удастся.
Тем более такую надежду лелеять было легко в далеком провинциальном малороссийском городке, где под великолепным безоблачным, подлинно праздничным небом проходила первая официальная и торжествующая первомайская демонстрация.
Благодаря близости фронта, в этой демонстрации еще не было, как это видела в Киеве ранее упоминавшаяся «свидетельница истории», ни расхристанных, в шинелях с висящими хлястиками солдат, ни пьяных девок. Состоявшие в единственном в городке «Пансионе тети Ревекки» так называемые «девочки» содержались в известной дисциплине, а общественная независимая представительница самой древней в мире профессии, работая на свой страх и риск, плодами трудов своих растила малолетнюю дочь и не позволяла себе напиваться.
Так что по главной — конечно, Шоссейной — улице, в относительной стройности и порядке, текли знамена, флаги, плакаты, цветы и по-настоящему — тогда еще не было обязательной явки — восторженная толпа. И то сказать: из пятнадцати тысяч насельников городка две трети впервые стали из терпимых илотов полноправными гражданми: могли ехать, куда им нравится, селиться, где угодно, не быть постоянной дойной коровой привередливой полиции и отдавать своих детей в любые школы, в любом городе огромной, как материк, страны.
Помню, как я, вместе с другими товарищами, с кружкой и набором значков собиравший доброхотные даяния не то на «Заем Свободы», не то на что-то другое, по тем временам не менее значительное и «звучное», подошел к одному из наших городских эскулапов, доктору Батю, уютному толстяку, неодолимому оптимисту и анекдотисту, все свободное от медицинских консультаций и визитов время проводившему в гражданском клубе за ломберным столом, одним из самых верных рыцарей которого он был. Наблюдавший за процессией с тротуара доктор, пока я прикалывал ему на отворот пиджака значок с портретом «заложника демократии», то есть введенного в состав Временного Правительства Петроградским советом солдатских и рабочих депутатов «первого министра-социалиста» А.Ф.Керенского, глядя на меня как на родного и сияя, как именинник, запихнул мне в кружку очень крупную ассигнацию. И кто бы мог тогда представить, что через два года этот же самый доктор Бать, по той же самой крупнобулыжной мостовой, по которой топали восторженные демонстранты, — вместе с другими, недавно «всеми уважаемыми людьми города», вслед за вызывающими всеобщее внимание барабанщиками, пойдет полураздетый, неловко ступая по камням непривычными босыми ногами, неся на груди плакат «бездельник-артежник», а с тротуара на все это поучительное шествие, очень по-разному его воспринимая, будет глазеть только что лихим рейдом 1-го Червонного Казачьего полка «освобожденный» от мелкобуржуазного прихвостня международного капитала Петлюры «торжествующий пролетариат»?