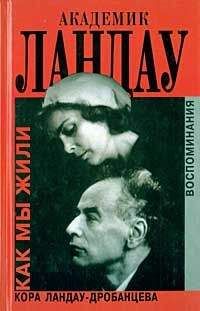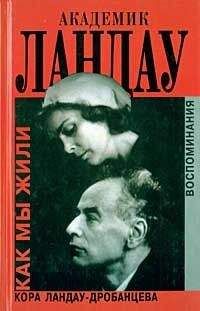Но свершилось чудо!
30 апреля 1939 года ночью зазвонил мой телефон в Харькове. Слышу голос Дау:
— Коруша, милая, ты есть? Ты меня не забыла?
— Дау, ты?!
— Я.
— Откуда звонишь?
— Из Москвы, из своей квартиры. Когда ты приедешь? — Сейчас, сегодня. Нет, наверное, завтра.
Но завтра тоже не смогла, было много общественных дел и работа. Через несколько дней оформила отпуск. В Москве при встрече:
— Даунька, милый, как ты исхудал. Ты стал совсем прозрачный. А где мои черные, красивые локоны?
— Корочка, дорогая, это все такие мелочи. Я счастливчик! Я еще увижу небо в алмазах! А, главное, я снова с тобой! Я этот год жил мечтой о тебе. Представляешь, вдруг следователь показал мне твои фотографии, говоря: "Если подпишете, то за этими стенами есть вот какие девушки". — "Она в жизни гораздо красивее, — ответил я. — А подписать подтверждение, будто я немецкий шпион, я не могу! Подумайте сами: всю свою жизнь я влюблялся только в арийских девушек, а нацисты это преследуют".
— Даунька, а потом подписал?
— Нет, Коруша, я не мог этого подписать.
— Дау, скажи, там было очень страшно?
— Нет, что ты, совсем не страшно. Я даже имел некоторые преимущества.
— Какие?
— Во-первых, я не боялся там, что меня могут арестовать! Во-вторых, я мог ругать Сталина вслух, сколько хотел. Я занимался наукой и сделал несколько работ. Коруша, я там даже немного развлекался.
— Там были девушки?
— Ну что ты, конечно, нет. Но там было много ослов-подхалимов. Я их дразнил, а дразнение — это своеобразное развлечение. Я очень люблю дразнить, когда есть за что!
— Как же ты их дразнил?
— Подхалимы, сидевшие со мной в одной камере, вваливаясь после допроса, выкрикивали: "Да здравствует Сталин!". А я им цитировал Ленина: "Никто не повинен в том, если родился рабом, но раб, который не только чуждается стремления к своей свободе, но приукрашивает и оправдывает свое рабство, есть внушающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам".
Все эти высокопоставленные чиновники, к которым я попал в компанию, очень плохо помнили учение Ленина и совсем не знали «Капитала» Маркса.
— Даунька, что у тебя с руками? (Руки по локоть были как бы в красных перчатках.)
— Ты испугалась моих рук? Это мелочь, все пройдет, просто нарушен обмен веществ. Понимаешь, там было пшенное меню. А пшено я не ем, оно невкусное. Когда пришел приказ прекратить мое дело, я уже не ходил. Только лежал и занимался тихонько наукой.
— Ты лежал, умирал с голоду, при том, что тебе подавали готовую горячую свежую еду?! Даунька, а нормальные люди, когда голод, едят опилки и лебеду. Ты ведь хотел выжить?
— Еще бы. Очень. Мечтал выжить, чтобы увидеть тебя.
— Но ведь ты принимаешь лекарство. Разве оно вкусное?
— Нет, лекарства по своей идее должны быть невкусными. Я их принимаю по предписанию врачей.
— И пшено ты должен был принимать как лекарство, по предписанию жизни, чтобы выжить!
— Корочка, какая ты умная, я не догадался так сделать. Пшено как лекарство я смог бы употреблять. Очень, очень хотелось выжить!
— Дау, ты всегда был для меня загадочно непонятен. С первой нашей встречи ты без конца меня удивлял и покорял. Вначале я решила, что ты человек не нашей эпохи. Родился на тысячу лет раньше. Но ты человек не нашей планеты!
— Нет, я просто счастливчик. Коруша, мне страшно повезло, понимаешь, наш Кентавр сделал эксперимент с гелием. Он считал свои результаты открытием. Но ни один физик-теоретик мира не может объяснить это загадочное явление природы. Капица считает, что это все смогу объяснить я один! Об этом Петр Леонидович Капица написал письмо в Центральный Комитет, и вот я с тобой.
А попал Дау в тюрьму по доносу П., одного харьковского ученика. Он был одним из пятерки его первых харьковских учеников. (…)*
С историей этого доноса я забежала немного вперед. О нем мне рассказал Дау много позднее. Он был уже Героем Труда, когда этот подлец явился к нему в Институт физпроблем просить прощения за свой донос.
— Коруша, он еще посмел протянуть мне руку!
В 1938 году, когда Дау был в тюрьме, я была пропагандистом. В те годы было принято беспредельно возвеличивать Сталина и его «знаменитую» речь. Это было выше моих сил. Вот и решила купить патефон и набор пластинок с речью Иосифа Виссарионовича. На свой участок я регулярно приносила патефон, заводила его и крутила пластинки. Успех превзошел все ожидания, явка стопроцентная! Никто не мог себе позволить не явиться и не прослушать эту речь до конца.
Меня стали хвалить на общегородских партийных активах Харькова и даже советовали всем агитаторам брать с меня пример. Думала: неужели поняли мой замысел? Или им всем действительно нравится речь? В те годы это оставалось тайной. В сталинские времена было много вопросов, но не было на них ответа.
Теперь возвращаюсь к очередным событиям моего приезда в Москву 1939 года. Вслед за мной примчался и Женька Лившиц. Его первые слова к Дау: "Вот теперь-то ты понял, каким был ослом, что тогда вернулся из своей последней заграничной командировки. Какие тебе роскошные условия предлагали англичане наперебой с американцами, а ты вернулся в свою свободную страну и получил тюрьму! Скажи честно: жалеешь, что вернулся в Советский Союз?".
Даунька удивленно посмотрел на Женьку:
— Ты что с луны свалился? Нет! Не жалею и никогда не пожалею! На свое тюремное заключение я смотрю просто, как на стихийное всенародное бедствие. В Советском Союзе я встретил Кору. Свою жизнь я разделил на две эпохи: до встречи с Корой первая, и вторая — после встречи с Корой. И потом, несмотря на разные искажения в системе управления нашего государства, наш социалистический строй — самый справедливый на нашей планете. Пойми главное: марксизм отрицает все религии, а капитализм поощряет слишком многоликую религию. Ты — научный работник. Попробуй совместить науку с религиями. Наука и религии несовместимы в международном масштабе! Религии есть обман трудящихся на всей планете.
— Дау, я вижу, тюрьма тебя ничему не научила. Скажи только, когда ты собираешься получать свою зарплату за целый год?
— Я?
— Да, ты. Разве ты не знаешь, что люди, вышедшие из тюрьмы чистыми, за вынужденный прогул получают полную компенсацию от государства.
— Это я знаю, но грабить государство не собираюсь. Я слишком счастлив, что все позади. Я ничего не желаю получать за свое освобождение. Я хочу жить и наслаждаться всеми благами жизни. Я еще увижу небо в алмазах.
— Дау, знаешь (уже изменив тон с наступательного на заискивающий), когда я узнал о твоем аресте, сразу взял отпуск в Физтехе, отпуск за свой счет. Друзья отца, медики, обеспечили меня справками, и я уехал в Крым. Как я боялся, что меня схватят за дружбу с тобой! Я нигде не прописывался, исколесил весь Крым, из-за тебя я целый год не получал зарплаты и ощутил большой убыток.