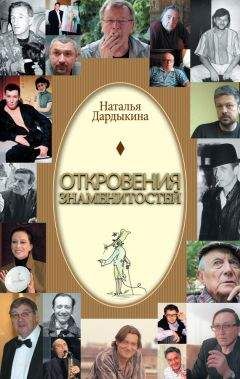«Пятьсот веселый»
Я уезжал из Самарово на том же самом «Карле Либкнехте», который в июне сорок первого так и не довез нас с матерью до цели, не обеспечил нам свидания в столице с самим Михал Иванычем Калининым. За четыре военных года пароход облупился и поизносился. И пассажиры уже были другие: командированные офицеры, демобилизованные солдаты, перемещенные гражданские лица. Все, что двигалось когда-то на восток, теперь устремилось на запад. Устремилось с новыми послевоенными надеждами и с новыми песнями. Радиола гремела, не смолкая. Победные марши перемежались довоенными фокстротами, а знакомые фронтовые мелодии вытеснялись новомодными солдатскими песенками союзников. «В путь далекий до милой Мэри, в путь до Англии родной!» распевали наши подвыпившие демобилизованные лейтенантики, ожидая скорой встречи со своими родными Цынгалами или Слушками. Они обменивались фронтовыми воспоминаниями и трофеями. Так стыдливо называлось вывезенное из освобожденной Европы шмотье и барахло. Лейтенантики имели право веселиться и радоваться, потому что уцелели в чудовищной войне и еще потому, что перед ними приоткрылась совершенно неизвестная, праздничная жизнь в краях, которые они освобождали. Оказывается, можно жить в чистоте и в изобилии, как живут те, освобожденные. Значит, и мы сможем! Мы же победители!
Я попал на пароход только в конце августа. У всех отъезжавших были какие-то особые документы и права на внеочередной выезд. У меня ничего такого не было. Я устроился все в том же четвертом классе на дровах, взяли меня с условием, что я буду помогать на всех погрузках и выгрузках. Мать основательно собрала меня в дальнюю дорогу. Она даже изготовила походный тюфячок, чтобы мне было комфортнее лежать на сучковатых дровах. Были заготовлены и продукты для долгого автономного питания в условиях всеобщей послевоенной голодухи. Деньги, которые мать копила все эти годы, были положены на аккредитив, а те, что предназначались для повседневных трат, мать спрятала под стельками новых, к отъезду справленных, сапог. В сверхсекретном кармане пиджака лежали
документы. Мне уже исполнилось семнадцать, и полагалось иметь паспорт. Но получить его в наших ссыльных краях было почти невозможно. Не без Оверькиной помощи мне неохотно дали временное удостоверение личности сроком на полгода. Мы с матерью рассудили так: за полгода я уеду достаточно далеко от этих мест, а дальше — видно будет!
Я окончил самаровскую школу с золотой медалью. Собственно, никакой медали не было, ее еще не изготовили. Медали были учреждены только в этом, победном, году. Зато я вез с собой аттестат зрелости, каллиграфически исполненный на обороте этикетки «Муксун в томате», и несколько копий на тетрадной бумаге, исполненных похуже — это на всякий случай. Изучив основательно «Справочник для поступающих», я после длительных раздумий и колебаний остановился на Всесоюзном государственном институте кинематографии. Представление о кинематографе у меня было самое смутное и ограничивалось светлыми воспоминаниями об агитбригаде. Я решил стать директором кинокартины, потому что фамилия директора в фильмах всегда написана крупными буквами.
С тем я и ринулся в неизвестность. Штабеля дров на пароходе постепенно уменьшались, а после Тобольска я спал уже на пустом и горячем металлическом полу машинного отделения. Пол мелко дрожал, из-под него рвался несмолкаемый грохот шатунов. Но зато теперь меня уже не заставляли грузить дрова — пароход шел по безлесной местности. Когда «Карл Либкнехт» преодолел реку Тобол и двинулся по узенькой Туре, возникло ощущение, что он плывет прямо по степи. Крутые берега поднимались до высоты палубы, и совсем рядом бежали наперегонки с пароходом перепуганные овцы, лаяли овчарки и тряслись на лошадках чабаны в островерхих казахских шапках. Когда пароход причаливал у горсточки юрт, начиналась торговля. Лейтенантики меняли трофейные побрякушки на овец. Овец тут же резали и свежевали. Казашки зазывно приподнимали подолы — под подолами, укрытые от степного зноя, стояли бутылки с кумысом. Почему женщины не охлаждали кумыс в речной воде, было непонятно — сказывалась, наверное, привычка постоянно пребывать в безводных местах.
В Тюмени меня встречала одна из материнских сестер — Шура. В войну она овдовела и с двумя детьми, в поисках лучшего, перебралась из дедовской омской халупы в Тюмень. Я переночевал у нее в точно такой же халупе, только уже не омской, а тюменской. Похоже, тетка сменила «шило на мыло». Наутро я решил приобщиться к цивилизации. По тем временам, это означало — посетить рынок. На тюменском рынке меня остановил самый натуральный городовой из фильма «Юность Максима». Городовой в мундире, при шашке и с малиновым шнуром на шее, строго спросил у меня документы. Жалкий провинциал, я и не знал, что всех милиционеров недавно переодели в новую, то есть, старую полицейскую форму. Это сделали с одобрения товарища Сталина — значит, так надо?
На рынке торговали невиданными товарами. Толстая тетка рядом с банными вениками продавала, например, фарфоровую кофемолку с надписью «Гутен морген!» Тут же мирно соседствовали немецкие и советские ордена. Я впервые увидел фашистские деньги. На них был изображен рабочий с молотом и крестьянка со снопом. Получалось, что у них тоже рабоче-крестьянская власть? Как же так?! Здесь же шла бойкая торговля перешитыми из советских и немецких шинелей курточками и пальтишками. Советские шинели ценились выше, потому что были теплее. Безногий инвалид торговал сигарами. На тряпице, в деревянной красивой коробочке лежали рядком толстенькие коричневые палочки с золотой опояской. О таком я только читал в книгах. А еще на карикатурах буржуев изображали с точно такими же сигарами в зубах. Поторговавшись, я купил себе сигару, а инвалид уговорил меня взять еще и зажигалку.
Я отошел в сторонку и решил раскурить сигару, но зажигалка не действовала. Продавец заявил мне, что зажигалку нужно было сначала опробовать, а купленный товар обратно уже не принимается. У другого инвалида (без руки) я прикурил свою сигару от его самокрутки. Впечатление было сильное. Казалось, горло и легкие обожгло кипятком, а потом туда еще подсыпали металлические опилки. Наивный провинциал, я не знал, что вместе с трофеями, на российские базары прибыла и германская эрзацпродукция. Оскудевшие в войну немцы придумали себе заменители. Они ели эрзацхлеб и мазали на него эрзацмасло. Созданные таким способом эрзацбутерброды немцы запивали эрзацкофеем. Весь этот суррогат тщательно и заманчиво был упакован в золотые бумажечки и коробочки. А сигары были, конечно, не из табака — их делали из каких-то лопухов, пропитанных никотином.