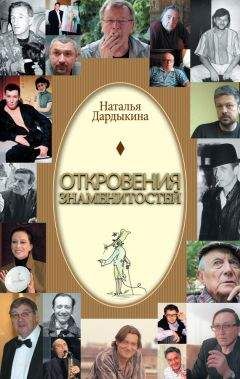Потом я с волнением посетил вокзал. Отсюда должно начаться мое главное путешествие в Москву. Вокруг вокзала расположились лагерем пассажиры. Оказалось, поезда здесь останавливались только для высадки. А на запад из Тюмени отправлялся раз в неделю один-единственный прицепной вагон. Мимо вокзала со свистом и грохотом проносились с дальнего востока воинские эшелоны — только что закончилась победоносная война с Японией. Я побродил по лагерю перемещенных лиц. Многие, с семьями и скарбом, жили здесь месяцами. Среди них я встретил и старых знакомых. Это были эвакуированные, отъехавшие из Самарово по особым пропускам значительно раньше.
Они рассказали много интересного. Мало того что на Москву идет один прицепной вагон, нужно еще получить вызов-подтверждение, что в Москве, и, вообще, в месте назначения, тебя ждет родня или казенная надобность. Дождавшись вызова, нужно ждать двухнедельного оформления пропуска. Получив пропуск, следовало еще пройти обязательную санобработку.
Процедура такова: отстояв предварительно в многодневной очереди, обладатель пропуска снимает с себя всю
одежду и сдает ее на прокаливание и прожаривание в специальную камеру. Пока в этой камере прокаливают и прожаривают вшей, будущий пассажир, голышом, зажав в кулаке пропуск, отправляется на помывку. Ему дают кусочек дегтярного мыла, пассажир отмывается, а в это время его доверенное лицо — жена, а может статься, что и соседка по очереди, хранит в кулаке пропуск. Я не оговорился — нередко обезумевшие от этой процедуры голые люди, из боязни потеряться или потерять свою очередь, мылись все вместе, без различия пола, а только в порядке очереди.
И, наконец, пропуск и справка у вас уже в руках. Остается пустяк — нужно раздобыть билет в единственный московский вагон, который цепляют раз в неделю. Между тем, в справке о санобработке мелким шрифтом написано, что справка эта действительна только на день отъезда — пока ты «свежеобработанный».
Раздавленный новостями, я побрел по Тюмени куда глаза глядят и добрел до двери с табличкой: «Тюменский обком комсомола». Я был, конечно, комсомольцем. В пять лет меня сделали октябренком, после пятого класса — пионером, а в четырнадцать — комсомольцем. В наших краях на происхождение закрывали глаза, потому что все мы здесь были, в принципе, неблагонадежными и социально чуждыми. Я пришел в обком комсомола уже под вечер, прошел по пустынному коридору и толкнул первую попавшуюся дверь. За столом сидел молодой парень и быстро писал.
— Ты ко мне? — спросил он, не поднимая головы.
Я сказал, что да.
—Ну?
— Мне надо в Москву, — сообщил я.
— Показать? — спросил парень. — Знаешь, как Москву показывают?
Я знал, как это делают, еще с детства. Если в школе к тебе подходит старшеклассник и ласково спрашивает, не показать ли тебе Москву? — быстро отвечай: «нет»! Если, по незнанию, ты скажешь «да», старшеклассник стиснет тебе голову и начнет тебя медленно приподнимать. Это очень больно, и ты кричишь: «нет!» «То-то же!» — говорит старшеклассник и, довольный, уходит.
— Мне очень нужно в Москву, — повторил я.
— Рассказывай, — сказал парень и писать перестал.
Тогда я объяснил комсомольскому вожаку, что намерен учиться в институте кинематографии, а институт находится в Москве.
— Ты уверен, что он находится в Москве? — спросил вожак. — А может, его куда-нибудь эвакуировали или расформировали? Война же была!
— Вот я как раз хочу поехать и проверить, — возразил я.
— А кто тебя туда приглашал, кто вызывал? Комсомольский билет предъяви! — потребовал парень.
Комсомольский билет я предъявил и копию аттестата тоже. Парень поглядел на аттестат, потом на меня и
задумался.
— Глупость ты придумал, уважаемый медалист, — заключил он, — в этот институт попадают только наркомовские дети или гении. Ты про кино хоть что-нибудь знаешь? Кто такой сценарист? А кто мультипликатор, например?
— Вот приеду и узнаю, — повторил я.
— Слушай, друг, а у тебя по химии что? — вдруг спросил вожак.
— Я медалист, — напомнил я.
— Тогда спрошу по-другому: ты науку химию любишь?
Ответить на этот вопрос было непросто. Науку химию я любил, потому что ее преподавала неистовая старая дева, одесситка Мария Карловна. Всю свою нерастраченную любовь она вложила именно в химию и заразила ею своих учеников. Если в школе происходил какой-нибудь взрыв или возгорание, виновников искали только среди учеников Марии Карловны. Но, с другой стороны, сестра Марии, старая дева Екатерина Карловна, с такой же яростью внедряла в нас любовь к слову и к сочинительству. Все ее ученики, и я тоже, были подающими надежды графоманами и стихоплетами.
— Ну, конечно, я люблю химию, — неуверенно сказал я вожаку.
— Так вот, во ВГИК никто тебя не возьмет, а в Менделеевку таких, как ты, даже приглашают.
— Кто? — удивился я.
— Факультет 138 приглашает!
— А чему там учат? — осторожно поинтересовался я.
— Вот приедешь в Москву и узнаешь. Главное, вызов есть! — парень показал мне роскошную, глянцевую бумагу. На бланке было написано: «Московский химико-технологический институт имени Менделеева». А пониже значилось: «Вызов-приглашение гр-ну...» и зиял пробел для фамилии приглашенного.
— Повезло тебе, медалист, прислали одно место на всю область! — позавидовал вожак.
— А, все-таки, что же это за факультет? — повторил я.
— Так заполнять на тебя или нет? — рассердился парень.
— Заполнять, заполнять, — поспешил я.
Уже у выхода из кабинета я вдруг остановился, потому что вспомнил о неразрешимой проблеме с санобработкой.
— Ну, это пустяки, — успокоил комсомолец, — это мы решим. Главное, чтоб было красиво напечатано! — парень подмигнул и заправил лист в пишущую машинку.
— Народ верит печатному слову! — вожак выдернул лист из машинки, быстро расписался и подал бумагу мне. На бумаге было напечатано крупными буквами: «Справка. Тов. Мельников В. В. обработку прошел. Зам-Тюмь-Сан». И далее, в скобках, меленькими буквами: «Желдораг». Внизу стояла неразборчивая подпись.
— Чем непонятнее, тем лучше, — объяснил мой благодетель, — нужную дату проставишь сам. Эту справку я успешно предъявлял потом во всех инстанциях в Тюмени. Предъявлял ее милиционерам, военным патрулям, в поездах, на станциях и полустанках. А позднее, я предъявлял ее и в Москве. Выяснилось, что Москва только слезам не верит, а липовым справкам она свято верит, как и вся Россия.
Я пришел к знакомым в лагерь перемещенных лиц уже другим человеком. Человеком с Пропуском! Все поздравляли меня, завидовали и давали советы. Я поделился радостью и с самаровским знакомцем Колей. Он был значительно старше меня, но в войну от армии был освобожден, потому что с детства прихрамывал. Я даже не знал его фамилии. В Тюмень Коля приехал по каким-то своим делам. Все мужчины после войны донашивали военную форму и прихрамывающий Коля с медсанбатовской палочкой ничем не отличался от фронтовиков-инвалидов. Инвалидов жалели и побаивались, так как среди них попадались контуженные и психически неуравновешенные. Коля по секрету сообщил мне, что знает тупик, в который перед отправкой всегда ставят московский вагон.