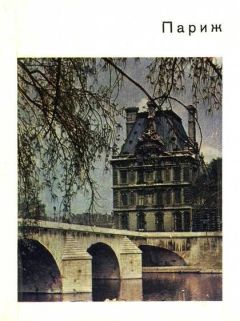Лора Эйман не пришла, но отправила на кладбище «велосипедиста» с венком, который оказался единственным — погребение было без цветов:
«Но когда сказали Маме, она захотела, чтобы Дядю похоронили с этим единственным венком… что и было сделано. О вас можно сказать, как о той женщине семнадцатого века, что «доброта и великодушие были отнюдь не малейшими чертами ее утонченности…»
Непоправимым горем того времени стала для него смерть бабушки. Пруст и его мать были единодушны в своем восхищении этой возвышенной женщиной, которая была больше Севинье, чем даже сама Севинье.
Госпожа Адриен Пруст Марселю:
«Порой я тоже встречаю у госпожи де Севинье мысли, слова, которые доставляют мне удовольствие. Она говорит (порицая одну свою подругу за отношение к сыну): «Я знаю другую мать, которая ничуть с собой не считалась и всю себя отдала своим детям». Не правда ли, это вполне приложимо к твоей Бабушке? Только сама она этого не сказала бы…»
Смерть матери произвела в госпоже Адриен Пруст внезапную и разительную перемену. «Мало сказать, что она потеряла всю свою жизнерадостность; истаявшая, застывшая, словно какое-то молящее изваяние, она, казалось, боялась оскорбить слишком громким голосом не покидавшую ее скорбную тень…» Внезапно она стала похожа на умершую мать, то ли потому что ее великая скорбь ускорила метаморфозу и появление существа, которое она уже носила в себе, то ли скорбь подействовала на нее как внушение, и выявила в ней черты сходства, существовавшие в потенции. Когда ее мать умерла, ей словно стало совестно быть иной, нежели та, кем она так восхищалась. Она ездила в Кабур читать на пляже, где сиживала ее мать, «Письма» госпожи де Севинье, тот самый томик, который ее мать всегда брала с собой. Окутанная крепом, «вся черная, она робко и благоговейно ступала по песку, которого до нее касались ноги любимого существа, будто отправляясь на поиски умершей, которую должны были вернуть волны…» Но, хотя ее траур был суров, она не требовала того же от своих домочадцев. Она лишь просила их следовать своим истинным чувствам.
Госпожа Адриен Пруст Марселю:
«Почему было не написать мне просто: «потому что ты все время плачете, и меня это сильно огорчает»? Я была бы уже не так печальна, дорогой мой малыш, потому что ты бы написал мне в тот момент. Твое письмо принесло бы отблеск того, что ты чувствуешь, и уже этим доставило бы утешение. И, главное, меня никогда не печалит мысль, что ты думаешь о своей Бабушке, напротив, мне это необычайно приятно. И еще мне приятно следовать за тобой в наших письмах — как я следую за тобой здесь — и где ты раскрываешь себя всего целиком. Значит, мой милый, не бери за систему не писать мне, чтобы не огорчить, потому что все происходит наоборот. И еще, родной мой, думай о ней, — лелей ее вместе со мной, — но не позволяй себе плакать целыми днями, тебя это нервирует, и ей бы это не понравилось. Напротив, чем больше ты думаешь о ней, тем больше ты должен быть таким, каким бы она тебя любила, и поступать так, как ей бы хотелось…»[73]
Увы! Он по-прежнему чувствовал себя неспособным работать и поступать так, как того желала бы эта требовательная и скорбная тень. Большинство его друзей уже начинало досадовать на малыша Марселя и сомневаться в качестве и даже в реальности его трудов, когда в 1896 году он объявил о своей первой книге — «Забавы и дни», название которой с наивным цинизмом пародировало Гесиода, противопоставив забавы трудам. Из-за сомнения в собственных достоинствах и потребности ощущать поддержку, он через госпожу де Кайаве попросил Анатоля Франса написать предисловие (а «Эгерия», ради уверенности в том, что тот согласится, частично написала его сама); от Мадлены Лемер он добился акварелей, а от Рейнальдо Ана — музыкальных текстов. Всё вместе представляло собой альбом — слишком изукрашенный, в слишком богатом сопровождении, слишком дорогой (тринадцать с половиной франков — скандальная цена по тем временам, когда книги продавались за три франка), и чьи «шелковые листочки» наверняка должны были настроить против себя суровых критиков.
На самом деле «Забавы и дни» не могли позволить даже самому прозорливому критику предугадать, что их автор станет однажды великим «изобретателем» и новатором в литературе, поскольку то была книга, похожая на множество других, выходивших в то время. По своим достоинствам и недостаткам она напоминала «Ревю бланш»[74] Жана де Тинана, Оскара Уайльда, была наполнена то тут, то там отголосками классической культуры, с эпиграфами из «Подражания Христу», из Платона, Феокрита, Горация, со стилизациями под Флобера, Лабрюйера. Франс в своем кратком, но теплом предисловии писал: «Есть в книге нашего юного друга также пресыщенные улыбки и позы усталости, не лишенные, однако, ни красоты, ни благородства», и отмечал «гибкий, проницательный и по-настоящему возвышенный ум… Поэт сразу проникает в тайную мысль, невысказанное желание… Оранжерейная обстановка… Причудливые орхидеи… Странная и болезненная красота… Здесь дышишь декадентской атмосферой и концом века..?
Но нам, знающим подлинного, состоявшегося и завершенного Пруста, в этих набросанных вперемешку текстах, которые подросток торопился выпустить в свет, легко распознать черты основных прустовских тем. Например, вот это, в его обращении к читателю:
«Когда я был совсем ребенком, ни одна судьба в Священной Истории не казалась мне столь же несчастной, как судьба Ноя — из-за потопа, который удерживал его взаперти, в ковчеге, целых сорок дней. Позже я часто болел, и в продолжение долгих дней тоже был вынужден оставаться в своем ковчеге. Я понял тогда, что никогда Ной не видел мир лучше, чем из ковчега, хотя тот был затворен, а на землю пала ночь…»
«Разве отсутствие не является для того, кто любит, самым достоверным, самым действенным, самым живучим и самым неистребимым из присутствий?..» Это предвосхищение «Пропавшей Альбертины». «Едва грядущий час становится для нас настоящим, как он лишается своих чар, с тем, правда, чтобы вновь обрести их, если в нашей душе довольно простора, в бережно хранимых перспективах, когда мы уже оставили его далеко позади себя, на дорогах памяти…» А эта хвала болезни? «Сладость приостановления жизни, истинного перемирия Божьего, прерывающего труды, дурные желания… Мы призываем смерть… Но если она избавляет нас от обязательств, взятых нами в отношении жизни, то не может избавить от тех, которые мы взяли в отношении самих себя, и в первую очередь — жить ради того, чтобы заслуживать и быть достойным…»