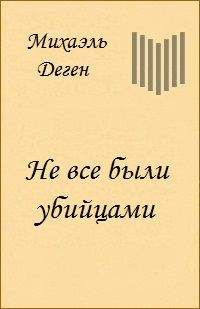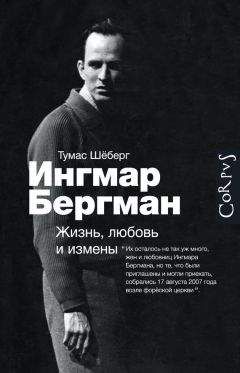«Я тебе уже сказал — ради порядка».
«Ради порядка не обязательно становиться шведкой».
Страх все больше овладевал мною. Я хотел только одного — уйти отсюда.
Меня не покидало ощущение, что в любую минуту здесь может появиться полиция.
«Почему это тебя так интересует? Ешь, сколько захочешь, пей свой чай, а потом можешь уходить. А если ты думаешь, что я или моя мать имеют что-то против Германии, ты ошибаешься. Нам Германия нравится, она прекрасна».
«Прекрасна? С непрерывными бомбежками? С улицами в развалинах?»
«Довоенную Германию мы тоже знали».
Он испытующе посмотрел на меня. Неожиданно для самого себя я решил рискнуть и рассказать ему все.
«Я пришел сюда не ради еды. Я пришел просить у вас защиты и помощи. Моя мама не может больше таскать за собой».
Он смотрел на меня. Лицо его оставалось бесстрастным, но глаза были печальны.
«Кто твоя мать?» — спокойно спросил он.
«Моя мама еврейка», — ответил я.
«Значит, ты еврей? Или твой отец немец?»
«Моего отца почти убили в Заксенхаузене».
«Почти?»
«Он умер в еврейской больнице на Иранишенштрассе. Незадолго до смерти моя мама забрала его из концентрационного лагеря уже смертельно больным».
«Твоя мать, наверное, очень хорошая женщина».
«Да, конечно».
«Я бы с удовольствием познакомился с ней».
«Это невозможно. Она не знает, что я здесь».
«Ну и дела!»
«Мы живем в садовом домике. Там очень холодно, и мы ужасно мерзнем. И еды у нас тоже маловато. Думаю, без меня ей, может, легче будет продержаться».
«Наверняка нет!»
Он спокойно смотрел на меня. По его лицу было невозможно понять, о чем он думал.
«Ты хоть раз задумывался над тем, как беспокоятся матери о своих детях? А если то, что ты рассказал, — правда, представляешь, как она боится за тебя?»
«Она наверняка рада, что я ушел», — врал я. — «Думаю, что нам будет легче пробиться в одиночку. Сюда она никогда бы не решилась прийти».
«Съешь еще что-нибудь! И знаешь, что я думаю? Ни одному твоему слову я не верю. Сказки ты хорошо умеешь рассказывать».
«Вы считаете, что я вас обманываю? Что я все придумал?»
«Сколько тебе лет?»
«Двенадцать».
«Для твоего возраста ты очень хитер».
«Я бы себе тоже не поверил», — ухмыльнулся я.
«Идем со мной».
Он встал и взял меня за руку. Я попытался сопротивляться, но он потащил меня с собой. Мы вышли в дверь позади его письменного стола и пошли по довольно длинному коридору. Наконец мы остановились перед полуоткрытой дверью. Это был туалет. Он втолкнул меня туда и закрыл за собой дверь.
«Ты, конечно, хочешь писать?» — спросил он.
«Нет, не хочу».
«Но тебе нужно пописать. А ну, снимай штаны!»
«А вам не нужно писать?» — ухмыльнулся я.
«Сейчас ты у меня получишь!»
Я почувствовал — он очень рассердился. Я спустил штаны. Он коротко взглянул и велел мне снова натянуть штаны. Потом мы вернулись в его кабинет. Он велел мне подождать и вышел куда-то. К моему собственному удивлению, это совершенно не испугало меня. Все происходящее даже начинало нравиться мне. Мне было интересно — что он теперь предпримет. Кушетка, на которой я сидел, была очень удобной. Я лег и вытянул ноги.
«Посмотрим, что теперь будет. Или здесь появятся полицейские, или он приведет с собой двух викингов, которые переправят меня через границу».
Незаметно для себя я заснул и проспал, должно быть, довольно долго. Когда он разбудил меня, я вскочил, как ужаленный. Он закрыл мне рот рукой и попытался успокоить.
«Нам надо серьезно поговорить», — сказал он и сел рядом со мной на кушетку. — «Ты, конечно, понимаешь, почему в туалете я заставил тебя спустить штаны. Поверь, мне самому было очень неприятно. Но ты, наверное, и сам догадываешься, с какими уловками нам приходится сейчас сталкиваться. Хорошо, я готов тебе поверить. Но в этом случае возникают две проблемы. Во-первых, я не посол, а всего лишь атташе, секретарь посольства. Это означает, что у меня нет никаких полномочий и сам я ничего не решаю. Без ведома посла я не имею права что-либо предпринимать и тем более обещать что-то. В Германии посла сейчас нет, он будет только к концу недели. Посол — единственный человек, который смог бы — предположительно смог бы — найти какой-то выход. Но я хочу тебе сказать: не жди, что он может переправить тебя через границу в Швецию. Он не имеет на это права, а на незаконные действия никто из нас, сотрудников посольства, не пойдет. Вторая проблема: твоя мать. Даже если бы мы могли что-то для тебя сделать, при всех обстоятельствах нам необходимо согласие твоей матери. Я предлагаю тебе вернуться к матери и посоветоваться с ней. После этого ты можешь снова связаться с нами. Может быть, к этому времени мы что-нибудь придумаем».
«Как?» — спросил я.
«Что как»?
«Как я могу снова связаться с вами?»
Я чувствовал себя совершенно разбитым. У меня не было сил подняться. Мне было ужасно стыдно, и хотел я только одного: уйти отсюда. Но я продолжал говорить.
«Вы же сами сказали, что мне здорово повезло, раз удалось попасть сюда. А если хотите отделаться от меня, скажите об этом прямо».
Он пропустил мое заявление мимо ушей.
«Я дам тебе номер телефона. Позвони мне на следующей неделе. Если трубку снимет кто-то другой, не говори ничего. Вообще ничего. Ты можешь разговаривать только со мной. Как я тебя узнаю?»
«Я не могу назвать вам своей настоящей фамилии. Сейчас моя фамилия Гемберг».
«Мне совсем необязательно знать, как твоя настоящая фамилия», — перебил он меня. И добавил, посмотрев мне в лицо: «Более того. Позвонив по телефону, ты должен к своей фамилии добавить что-нибудь. Например, химчистка Гемберг или что-то в этом роде».
«Химчистка Гемберг, Нойкельн», — съязвил я. Он засмеялся.
«„Нойкельн“ можешь не добавлять. И пожалуйста, отнесись абсолютно серьезно к тому, о чем мы с тобой договорились. Еще одно. В посольстве никто не знает, что мы знакомы. Это я говорю в моих собственных интересах, потому что не уверен, одобрит ли здесь кто-нибудь мои действия. А о самом после говорить вообще не нужно».
Он написал на листке номер телефона и поспешно выставил меня за дверь.
«В чем-то он похож на нашего „чокнутого эсэсовца“», — подумал я, снова оказавшись по другую сторону кованых ворот. Бережно сложив листок с телефонным номером, я спрятал его в своем ботинке.
Затем я отправился обратно в Нойкельн. Назад, в промерзший садовый домик, к матери — она, наверное, еле жива от страха. Этот швед прав. Занятый собственными переживаниями, я совсем забыл о матери. Мне стало совестно.