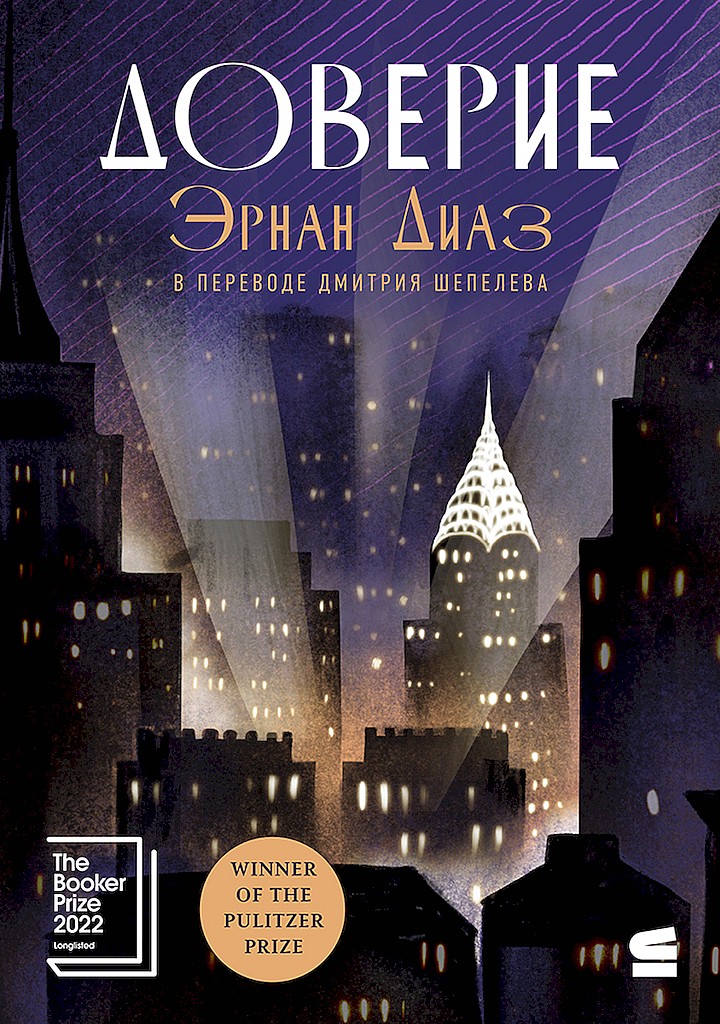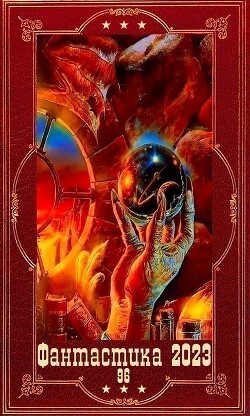смотрела сквозь них. Ее пальцы осваивали пространство несколько активнее, мягко поглаживая любую поверхность, осторожно касаясь раковины или спинки стула, словно проверяя их консистенцию и температуру.
Доктор Фрам подал знак Бенджамину выйти из комнаты. На лице Раска отразилось негодование, и он повернулся спиной к доктору, сделав вид, что не заметил его жеста. Но он не смог не заметить руки Фрама у себя на плече и его просьбы с сильным акцентом, чтобы он оставил его один на один с пациенткой. Бенджамин взглянул на пухлую руку у себя на плече; доктор Фрам убрал руку и указал ему на дверь; Бенджамин опустил негодующий взгляд и объявил, что подождет снаружи.
Оставшись наедине с Хелен, Фрам предложил ей прилечь, поставил стул за железным изголовьем кровати и, усевшись, спросил по-немецки, каким ей увиделся образ отца в этой комнате. Увиделся ли ей мужчина, руководивший ее детством, или инвалид ее отроческих лет?
Отвечая по-немецки, Хелен казалась спокойнее. И хотя говорила она с поразительной легкостью, в ее немецком имелись большие лакуны, как обычно бывает у тех, кто учил язык самостоятельно и бессистемно. Поскольку ей то и дело приходилось делать паузы и подбирать парафразы, обходя пробелы в грамматике и лексике, складывалось впечатление, что она сумела до некоторой степени овладеть своей лихорадочной спешкой. Но ее немецкий, как и прочие иностранные языки, что она выучила, пришел из необычных источников — из устаревших книг и наигранной болтовни обедневших аристократов и дипломатов на званых вечерах — и был оторван от повседневности. Это придавало ее речи оттенок барочности, театральности, несколько нарушавший иллюзию здравомыслия, складывавшуюся благодаря ее размеренному темпу, и при всей своей врожденной элегантности она порой напоминала плохую актрису, злоупотребляющую гримом.
На вопрос доктора она тихо рассмеялась. Только глупец стал бы отделять подобным образом прошлое от настоящего. Будущее все время вторгается в настоящее, норовя заявить о себе в каждом нашем решении; оно всеми силами пытается стать прошлым. Вот что отличает будущее от простой фантазии. Будущее случается. Господь никого не ввергает в ад; духи сами низвергают себя, по словам Сведенборга. Духи низвергают себя в ад по собственному свободному выбору. А что такое свободный выбор, как не ветвь будущего, прививающаяся к стеблю настоящего? Прошлый отец? Будущий отец? Хелен снова рассмеялась и перешла к рассмотрению темы садоводства в свете алхимии. Однако доктор Фрам был осведомлен, что в ее воспитании важную роль играл Сведенборг, и мягко настоял на этой точке входа в ее детство, развивая замечание Хелен в том ключе, что ее отец сам выбрал себе ад. Продолжая говорить, она не сводила взгляда с пятна плесени на потолке, напоминавшего черный пион.
Вскоре после размещения Хелен в институте доктор Фрам начал отучать ее от лекарств. По его словам, он хотел понаблюдать за ее симптомами в их чистом виде, без какого-либо противодействия, а затем попробовать наименьшую дозу солей лития. В результате, когда ей почти перестали давать успокоительные, ее мания достигла пика. Бенджамин потребовал, чтобы жену снова посадили на лекарства. Психиатр, не тронутый его грозным тоном, сказал, что ему нужно еще несколько дней. Примерно через неделю, опровергая худшие опасения Бенджамина, появились признаки легкого улучшения. Пусть речь Хелен оставалась такой же избыточной и непоследовательной, но, раз за разом терпя неудачу в поисках выхода из вербальных лабиринтов, она теряла и силы, что, в свою очередь, делало ее несколько спокойнее. Доктор Фрам объяснил, что обращает ее маниакальное состояние против самого себя: ее бессонница и бурная психическая деятельность в сочетании с естественным истощением определенных гормонов и ее физическим режимом возымеют в конечном счете наркотический эффект. Ей требовалось выплеснуть энергию; требовалась физическая разрядка; требовался воздух. Исходя из этого, после каждой бессонной ночи, в течение которой Хелен обращала свои речи к молчаливым медсестрам, с первыми лучами солнца ее выводили в сад и оставляли одну в шезлонге, лицом к горам.
Она все так же разглагольствовала, высвобождаясь из-под плотно подоткнутых одеял. Однако стоило солнцу взойти, и ее монолог переходил в спорадическое бормотание, сменявшееся, в свою очередь, молчанием. Час-другой она наслаждалась блаженством безличности, отдаваясь чистому восприятию безымянной сущности, видящей горы, слышащей колокол, дышащей воздухом.
◆
БЕНДЖАМИН НЕ НАХОДИЛ СЕБЕ ПОКОЯ, будучи отделенным от своей стихии сразу на нескольких уровнях. Ему никогда еще не случалось быть иностранцем, и, хотя он воспроизвел свой американский образ жизни почти в полном объеме, захватив с собой ближайших слуг (а также шеф-повара, мебель и большую часть аксессуаров, окружавших его в Нью-Йорке), его раздражала и даже оскорбляла всякая «европейскость», просачивавшаяся в его жизнь. Немецкий язык с его тарабарским звучанием был лишь частью обширного заговора против него. Необитаемые холмы, вертикальный альпийский горизонт и полудикая природа, окружавшая институт, заставляли его чувствовать себя изгоем. И хотя здоровье жены оставалось его главной заботой, оторванность от бизнеса начала сказываться на его физическом состоянии — он стал испытывать головокружение и легкое удушье. Телефонные линии обходили институт стороной, радиосигналы были слишком слабыми в такой глубокой долине, окруженной высокими горами, а ретрансляционная система, которую Бенджамин разработал для передачи информации из Нью-Йорка и Лондона в Бад-Пфеферс, была слишком медленной. События на рынке доходили до него только в качестве «новостей», как в печати обозначают решения, принятые другими людьми в недавнем прошлом.
Низведенный до положения праздного наблюдателя в сфере бизнеса, Раск переключил все свое внимание на лечение жены. С самого начала переговоров с доктором Фрамом, когда Бенджамин пытался заполучить целый корпус института, директор ясно дал понять, что богатство финансиста не внушает ему трепета. В то время Раск, по горло сытый лестью лакеев и прочих подхалимов, нашел такой ответ освежающим и даже ободряющим. Он проникся уважением к доктору Фраму за его преданность своему искусству, отказ подчиниться внешним требованиям и безразличие к вульгарным чарам денег. Все это внушало ему мысль, что Хелен в надежных руках. Но теперь, когда все, на чем он мог сосредоточиться, — это ежедневное развитие лечения, его прежнее восхищение твердостью и моральной прямотой доктора обернулось постоянной фрустрацией и негодованием. Фрам его избегал и удостаивал лишь кратких уклончивых отчетов во время их встреч, неизменно прерывавшихся вторжением медсестры или коллеги, требовавших внимания херра директора, — жалкой уловкой, которой обучена каждая секретарша в Нью-Йорке. Участие Бенджамина, его рекомендации и связи в фармацевтических кругах отклонялись (он был уверен) не без пренебрежения. Контакты с женой были сведены к минимуму, чтобы она получала достаточно «воздуха». Что вообще за методы у этого доктора? Без лекарств? И что это