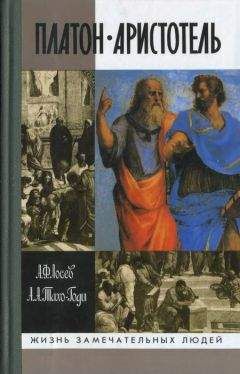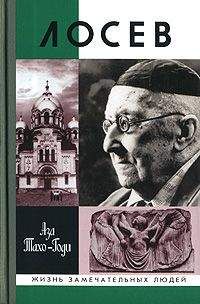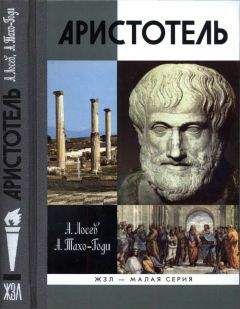Архит, этот испытанный друг Платона, чувствуя свою вину (ведь он так настойчиво склонял Платона к поездке), на тридцативесельном корабле отправляет Дионисию под каким-то предлогом посольство во главе с Ламиском. Ламиск просит Дионисия отпустить Платона, напоминая, что Архит и тарентийцы в свое время поручились за его безопасность.
Дионисий, безудержный в гневе, но изощренный лицемер, более всего боялся дурной славы в мире просвещенных людей. Платона призвали во дворец, день за днем устраивались в его честь пиршества, его осыпали подарками.
Ни Дионисий, ни Платон как будто даже и не вспоминали о страшных днях под угрозой смерти. Первым не выдержал молчания Дионисий. Он заискивающе спросил: «Что же, Платон, ты, верно, много всяких ужасов нарасскажешь о нас своим друзьям-философам?» Платон, тонко улыбнувшись, ответил, осмелев на прощанье: «Помилуй, навряд ли Академия способна ощутить такую нужду в темах для разговора, чтобы кто-нибудь стал вспоминать о тебе». Так закончилась третья поездка Платона в Сиракузы. Усталый, больной вернулся Платон в родную Академию.
Весть о прибытии Платона застала Диона в Олимпии, на общегреческих играх. Он, возмущенный, призвал в свидетели Зевса, готовясь отомстить Дионисию за попрание гостеприимства и за свое изгнание. Однако Платон не хотел быть союзником в беспощадной борьбе давних врагов. Отныне он стал уже уклоняться от всех честолюбивых планов, которые строили его друзья вместе с Дионом, хотя и был готов дать им благой совет, если бы они пожелали свершить нечто доброе. Но все готовы были причинить Дионисию величайшее зло. Даже племянник Платона Спевсипп, забыв свою философию, ударился в политику. Еще в Сиракузах он собирал для Диона сведения о настроении граждан. Дион, воодушевленный рассказами Спевсиппа, собирал вокруг себя государственных людей и философов. Однако все это были чужеземцы. Из тысячи соотечественников Диона, находившихся, как и он, в изгнании, к нему примкнуло лишь двадцать пять человек. Все прочие устрашились и отступили.
Дион начал военные действия против Дионисия, и судьбе было угодно, чтобы Дион победил, а Дионисий ушел в изгнание и кончил жизнь всеми забытый где-то в Греции. Но хотя Дион еще в Академии научился искусству укрощать гнев, зависть и недоброжелательство и вел скромную жизнь во дворце, словно он разделял трапезу с Платоном в Академии, а не был полководцем и владыкой Сиракуз, — он был уже обречен. Диону было важно, как отнесется к нему Академия, что скажет Платон об его умении распорядиться своим счастьем, не нарушает ли он закона справедливости, находясь на вершине власти. Более того, он мечтал претворить в деле их совместные с Платоном мечты о демократии ограниченной, наподобие спартанского или критского, строя, то есть объединить власть народа с царской властью. Это вызвало упорное противодействие в Сиракузах и привело в конце концов к заговору и убийству Диона.
Так страшно закончились мечтания философа и практическое их воплощение политиком. Они стоили жизни одному из них и привели к глубочайшему разочарованию в реальной политике другого. На горьком опыте своих взаимоотношений с тираном Платон научился многому. Он убедился в том, что не только беззаконие и нечестие, но, главное, дерзкое невежество плодит всевозможное зло, рождающее для тех, кто его создал, горький-прегорький плод.
С невежеством как злейшим пороком Платон боролся всю жизнь. Правда, Платон сознавал, что он во многих случаях способен лишь на слова и с трудом берется за дела, отрываясь от своих философских трудов. Но к чести Платона, оказалось, что он может пересилить себя во имя высших целей, хотя возможности его невелики по сравнению с записными политиками. В трудные минуты мысль о друзьях всегда поддерживала его, и он готов был участвовать в их предприятиях, если это были дела добрые. «Скликайте на зло других», — говорил Платон. Ничто не может служить лучшим признаком достоинства или порочности человека, по мнению Платона, чем наличие у него или отсутствие верных людей. Любовь к своему отечеству Платон считал величайшим даром. Подобно Сократу, он считал, что если государство управляется нехорошо, то его правителям надо советовать, увещевать их речами, даже если это грозит смертью. Избегать следует одного — насилия над родиной, то есть государственного переворота, если такие действия связаны с истреблением и изгнанием людей. «Уж лучше, — говорил Платон, — молиться о благе для самого себя и для государства».
Платон рассуждает здесь как философ-созерцатель. Но, несмотря на свою далекость от государственной практики, он ощущает великую притягательность мудрого философствования, к которому тянутся сильные и опытные в практических делах люди. Недаром он чувствовал в Дионисии его тайную честолюбивую страсть прослыть истинным философом и даже умудрился, будучи совсем беззащитным, влиять на него. А между тем, думал Платон, если бы философия действительно могла сочетаться с силой, то можно было бы доказать и эллинам и варварам, что разум и справедливость существенны в управлении государством. Сила без разума рождает деспотизм. Любое же государство, и в том числе Сицилия, не должно находиться под властью деспотов, но управляться законами. Власть деспота развращает поработителей и порабощенных, их детей, внуков и правнуков. Только мелкие и несвободные души, по убеждению Платона, навязывают деспотию, гибельно действуя на себя и других. Поэтому борьба с деспотизмом — первейшая задача людей, даже если она грозит им смертью. Ведь пострадать, стремясь к прекрасному для себя и государства, прекрасно и достойно человека. Правда, Платон, как всегда, преувеличивал влияние этих добродетельных и разумных людей, устанавливающих общие для всех, правильные законы. Оказывается, достаточно на десять тысяч граждан избрать всего лишь пятьдесят мудрых старцев, как они составят законы, равные и общие для всего государства. Взявшие власть должны подчиняться законам даже с большей готовностью и непреложностью, чем те, кто подчиняется этой власти. И вот тогда-то все преисполнится, мечтает Платон, «благополучия и радости».
Попытку такого гармоничного общества Платон, по его словам, хотел осуществить, опираясь на Диона, в Сицилии. Однако некий рок, который сильнее людей, разметал планы неисправимого мечтателя.
Но Платон не унимается. Даже после гибели Диона он увещевает его друзей, чтобы они попытались выполнить неудавшееся когда-то намерение, уповая на покровительство божественной судьбы.
Разочарованный в исправлении и улучшении сиракузской тирании, на что было потрачено много лет жизни, Платон теперь ищет спасения в царской власти с ее старинными, даже патриархальными традициями. Философа ничуть не смущает, что в его время такой царской власти уже нигде не было. В его мечтах живет вечная идея древнего легендарного спартанского законодателя Ликурга, мужа мудрого и достойного. Это он, по преданию, ограничил царскую власть советом старейшин — геронтов и эфоров, наблюдавших за исполнением законов. Царская власть при этом не переродилась в тиранию, и закон стал владыкой над людьми, а не люди — тиранами над законами. Для Платона как подчинение, так и свобода, переступающая границы, есть величайшее зло, а в надлежащей мере это — великое благо. Для разумных людей закон — бог, для неразумных — удовольствие. Подотчетная царская власть, охраняемая тридцатью пятью стражами законов, избранными народом, и советом мудрых старцев — становится идеалом Платона, тем идеалом, который он попытается воплотить в своем последнем сочинении, в «Законах».