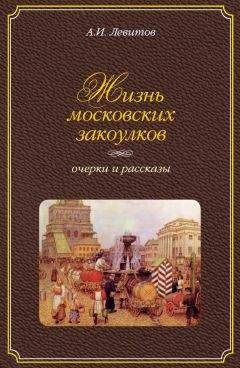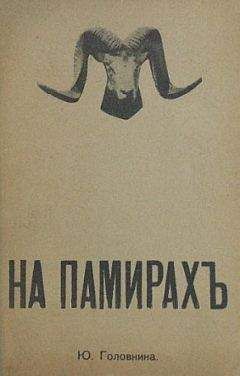Ознакомительная версия.
От квартиры, в то время только что отделанной, несло сырым лесом, клеем и масляными красками. Нога человека не была еще в ней после печника, который, закончивши свою работу порядочной выпиванцией с одной соседней кухаркой, ушел и не возвращался даже и тогда, когда хозяин искал его для поправки печей, дымивших, как жерло ада, и потому дворник, рекомендовавший Татьяне прелести фатеры, по его словам, «за первый сорт», был справедливо удивлен этой старухой, безмолвно позвякивавшей спицами и неразборчиво шептавшей что-то своими тонкими, высохшими губами.
– Бабушка! кто это тебя сюда пустил? – спросил дворник старуху; но старуха уперла в него своими светлыми очками, помахала головой, как будто удивляясь тому, что дворник не знает человека, устроившего ее в коридоре, и только. – Что же ты не говоришь? Ай немая? Говори! Хозяин што ли пустил? – расталкивал уже дворник молчаливое существо.
– Ты вот что, дворник, – прошептала наконец таинственная незнакомка, – ты не толкайся. Я губернская секретарша!
– Полно балы-то точить! – сердился дворник. – Сказывай: по чьему ты приказу здесь поселилась?
– И ты не смей мне говорить, мужлан! Я сказала тебе, кто я такая. – И барыня при этих словах энергично оттолкнула от себя заскорузлую дворницкую руку.
– А, так ты такая-то! Ты толкаться еще в чужой фатере вздумала! Сказывай: кто тебе приказал жить здесь?
– Бог! – удовлетворила наконец любопытного дворника губернская секретарша.
– Что ты с ней будешь делать? – спросил дворник уже у Татьяны, с какой-то снисходительной полуулыбкой. – Надо, верно, в фартал идти объявить.
Губернская секретарша не обратила ни малейшего внимания на роковое слово «фартал» и по-прежнему продолжала звякать спицами, мотать головой и шептать что-то – должно быть, про свои, одному Богу только известные, дела.
Квартальный пришел – и добился столько же, сколько и дворник.
Старуха-нищая. Рисунок из журнала «Всемирная иллюстрация». 1870 г. Государственная публичная историческая библиотека России
– Как вы сюда попали? – спрашивал у старухи надзиратель.
– А так и попала… – отвечала она с видимым неудовольствием. – Как попадают-то, разве не знаешь?
– Говорите, кто вы такие? Давайте ваши документы.
– Молод еще документы-то спрашивать! Начальник какой выискался! Молоко-то на губах обсохло ли?
Доложили об этом происшествии хозяину. Тот пришел и долго стоял перед старухой, поглаживая бороду в великой задумчивости и по временам осклабляясь. Самовольная постоялка тоже ничего не говорила и даже ни разу не взглянула на него, сосредоточенно уткнувшись в свой чулок. Наконец хозяин сказал дворнику:
– Бог с ей, Трофим, не трожь ее. Человек, видно, не простой, потому большим сурьезом и молчальностью от Бога награжон…
– А как же, хозяин, – вступилась было Татьяна. – мне-то с ней быть? Ведь уж платежа от ней не добьешься, а я бы на ее место всегда нашла жилицу с капиталом…
Тут хозяин почти так же серьезно, как и Александрушка, сморщил свои черные брови и внушительно заговорил:
– Мне, – говорит, – милая ты женщина, пребывание в моем доме прозорливого человека не в пример твоей платы дороже. Может, она нечестия твоего ради наслана вон откуда… – и при этом хозяин торжественно указал на потолок. – Так-то. Потому так, милая женщина, рассуждаю я про тебя, что допрежь тебя ни в одном моем доме таких историев никогда не было, хотя точно что благочестивые люди помногу и подолгу у меня пребывают… Опять же и солдатка ты: всякому греху, значит, ты больше нашего брата причастна. Следовательно, для одной тебя энто устроено, и ты должна все эфто понимать и ценить…
– Так вы, ваше степенство, скинули бы мне за нее хоть полтинничек в месяц за фатеру. Вы люди богатые.
– Это так, достаток имеем; только с фатеры единой даже копейки скостить не могу, потому так уже положено ходить ей по тридцати серебром; щепочек вон, коли хочешь, что от построек осталось, возьми охапочку-другую. Просим прощенья, милая женщина! Жить вам да поживать, да добра наживать! – закончила борода, отправляясь восвояси.
– Жидомор, черт!.. – шептала вслед ему Татьяна; после чего губернская секретарша безвозбранно поселилась в комнатах снебилью, оплачивая свое завоеванное положение и кусок хлеба своим неутомимым рвением служить даже слуге всех – Лукерье и готовностью, во всякое время дня и ночи, сердито побранить какого-нибудь подкутившего жильца, утешить Татьяну в каком-нибудь несчастье, истолковать ей мудреный сон, виденный в прошлую ночь, и проч.
Терпеливо и ни на минуту не меняя своего сердитого лица, исполняет заштатная чиновница свои многочисленные роли, так что в непродолжительном времени ее полоумная манера неизменно и во всем угождать всякому человеку, но угождать как бы из-под палки, что называется «срыву», – сделала ее тем не менее любимицей и темного коридора, и светлых комнат, так что стала барыня совершенно необходимой вещью в обоих местах, в одно слово нареченной и благородными комнатными жильцами, и коридорными плебейками ласкающим именем «чиновницы-Александрушки».
Без таких Александрушек в Москве обходится редкий дом. Это чрезвычайно своеобразное русское горе, гнездящееся в различных Тулах, Нижних и прочих жирных городах, которые приучают его с целью потешиться им на досуге той потехой, которую доставляют им бодливые, но не имеющие рог коровы… Характеризуется это горе своими земляками и, так сказать, пристанодержателями знаменательным словом: тронумшись маненько; а я лично думаю, что они обозлимшись, и обозлимшись не маленечко, а очинно. По последним штрихам, которыми я имею закончить Александрушку, весьма легко рассудить, каким именем лучше назвать коренную жилицу комнат снебилью.
Во весь голос, без всякой помехи, задувает, бывало, Лукерья на кухне, примерно хоть про то, как некто «вечор был на почтовыем дворе» и как этот некто на том дворе на почтовом «получил от девицы письмо». Раздолье полное звонкому бабьему голосу, потому что день выгнал всех комнатных жильцов на добычу; коридорный люд тоже разбрелся кое-куда по своим мизерным делишкам, – и во всем этом пустынном сарае осталась только домоседничать Лукерьина песня да Александрушка.
В виде какой-то толстой, пегой змеи ворочается в коленях у убогой чиновницы ее всегдашний, непокидаемый друг – шерстяной чулок, тихо звякают и шелестят ее вязальные спицы, а сама она, неразвлекаемая многоразличными комиссиями, которыми со всех сторон засыпали ее жильцы комнатные и коридорные, когда бывали дома, долгое время, по своему обыкновению, молчаливо и неподвижно сидит около самой двери и как будто старается подслушать, о чем именно шепчутся с этим неповоротливым чулком ее тонкие, проворные спицы. Сидит, говорю, и ни слова; только головой, поистине обутой в какой-то чепец с уродливыми фалбарами, из стороны в сторону раскачивает. А между тем по лицу ее проходят в эти минуты глубокие морщины, налегают какие-то мрачные, выражающие крайнее страдание тени, так что Лукерья, случайно прошедши мимо Александрушки, непременно произносит:
Ознакомительная версия.