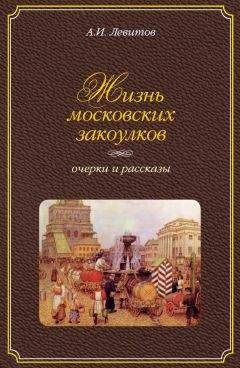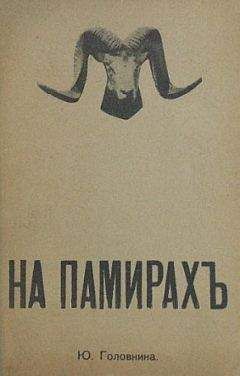Ознакомительная версия.
Немножко не таковы были жильцы комнатные.
VIII
Жильцы комнатные, или господа
Описанный коридор разделял комнаты снебилью на две половины, в каждой по четыре каморки, величаемых Татьяной громким именем номеров. Одна половина своими окнами была обращена на улицу, другая на двор. В одной из лучших комнат, смотревшей на улицу, в качестве человека, происходившего от старинных польских магнатов, жил прапорщик Бжебжицкий.
– Да! я-таки привык к некоторому комфорту, – говаривал сей обрусевший сармат{64}, закладывая зимой пальто для того, примерно, чтобы купить ничтожный коврик, по двугривенному за аршин, к изодранному дивану, на котором он спал.
– В чем же вы теперь ходить будете? – спросит кто-нибудь у прапорщика в то время, когда он производит свою спекуляцию.
– Есть мне время рассчитывать, как и в чем ходить я буду, – обыкновенно отвечал он. – Подите спросите у Александрушки, в чем она будет ходить. В том же самом и я ходить буду. Рекомендую ее вам как самый лучший образец для всевозможных подражаний, – прибавлял Бжебжицкий, когда у него заходил с кем-нибудь из сожителей спор о каком-нибудь трудном вопросе жизни.
– А все это меня Москва к таким роскошам приучила, – откровенничал Бжебжицкий с жидом, принимавшим у него пальто, в надежде расположить своим добрым обхождением израильтянина к тому, чтоб он взял с него в месяц пять процентов, а не десять, как обыкновенно взимают израильтяне. – То есть ты не поверишь, Барадка, – убаюкивал воин наишельмейшего жида, – такими она меня суммами заваливала, теперь даже и подумать о них грешно. А сама какая была! Ежели я тебе ее портрет покажу, так ты в полное неистовство придешь… – Но жид своими черными, бесстрастными глазами в одно и то же время осматривал и прапорщичье пальто, и самого прапорщика до того насмешливо и вместе с тем почтительно, что даже самая окрыленная надежда заставить его что-нибудь вскрикнуть при взгляде на портрет московской купчихи становилась в тупик; однако же Бжебжицкий, как нельзя больше знакомый с этим взглядом, все-таки продолжал:
– Исааком, Иаковом и Израилем клянусь{65}, что ты, Барадка, непременно вскрикнешь: «Пане мой великий! пане мой, ух какой ясновельмозный! Дайте мне эту купчиху миррой и вином напоить». Так-то, скверная ты тварь, жид ты, христопродавец, анафема! Вот я из-за чего мое пальто закладываю: из-за купчихи собственно, потому что нынешний день предстоит мне случай возобновить с ней прерванное знакомство. Так ты обстоятельство это и чувствуй всем своим носом жидовским.
Затем шла уже Барадкина речь.
– Ах, пане мой! – говорит Барадка. – Как зе вы хоросо так по-насему науцились. Долго, долзно быть, в Полсе вы зыли; много, долзно быть, вы насему брату своих барских весцей прозакладывали… – И все-таки вместо того, чтобы дать прапорщику под его пальто шесть рублей, жид давал ему почему-то десять, а процентов брал только восемь.
Таким образом вел прапорщик свои делишки.
Все они у него состояли из закладов и перезакладов и постоянных стремлений ухватить где-нибудь в магазине, или лавке, распродающейся, вследствие некоторых коммерческих обстоятельств, по неимоверно дешевым ценам, – ухватить, говорю, товару какого-нибудь, под заемное письмо, сотняги эдак, канальство, на две, на три и потом бакнуть этот товарец, по крайности, за бумажку со столбиками. В последнее время стремления эти осуществлялись как-то с каждым днем все реже и реже.
– Чем ближе к гробу, – говаривал Бжебжицкий, – тем как-то несмысленнее делаешься. Ныне нет уже той прозорливости, которая постоянно отличала столь эффектно бунтовавшую юность мою. Или уж народ, т. е. что называется массой-то, измошенничался, испрогрессировался, т. е. ходишь-ходишь около него с целями добыть от него свои благородные средства – и ничем-то ты его не объедешь. Сама эта масса в нынешние голодные времена каждую минуту диким зверем рычит, потому что запрос на хлеб изо всякого рта здоровый идет и тишины этой безмятежной, которой добрая старина отличалась, даже и в провинции не найдешь. Д-да-с!
Никогда, даже и в те моменты, когда Бжебжицкий находился на взводе, и следовательно, судя по-общечеловечески, в большем или меньшем расположении к откровенности, нельзя было добиться от него, кто он, откуда появился в столице и чем именно занимается в ней. Рекомендую же я его за прапорщика на том единственно основании, что это было последнее его показание, которому почти никто не верил, потому что за несколько лет назад Бжебжицкого нередко видали в Москве и под голубым околышем{66}, и в аксельбантах ученого офицера, в костюме штатского фешионебля{296}, с заливающей всю улицу своим ароматом сигарой во рту, и в жалких отрепьях столичного пролетария – не с папироской даже, а просто-напросто с бумажным крючком, набитым тютюном, где-нибудь на Цветном бульваре, или у будки{67}, дружелюбно вспоминающим с часовым про красоту родимой саратовской степи, где в одной деревушке у часового, как слышно было из разговоров, проживала старая мать, а у Бжебжицкого в другой, соседней деревушке, находилось будто бы имение, отнятое во время его сиротства некоторым старым дядей, отъявленным мерзавцем и шельмой.
Видали, повторяю, люди, как прапорщик заговаривал, как говорится, зубы бутырям{68} с целью, воскресивши в их памяти родные и весело зеленые поля и родные же, но черные и печальные избы, получить некоторым образом приглашение войти в теплую будку, обогреться и покалякать; а дальше Бжебжицкий умел уже, как он сам про себя говорил, держать фортуну за хвост, – дальше в будку приходила какая-нибудь Матрена из соседнего дома, вынимала эта Матрена из своих карманов полфунтика сахарку, полтора золотника чаю и становила самовар. Под его приятное шипение Бжебжицкий заводил нескончаемый рассказ про свою сиротскую, бедственную жизнь, за что, конечно, получал, хотя и косвенное, награждение в виде этого угостительного горячего чая и мягкого полубелого хлеба, которые так приятно ложатся на начинающий уже мертветь желудок. А ночь между тем, – эта темная, с холодным, постоянно моросящим дождем, осенняя ночь, – все идет да идет вместе с этим печальным рассказом про непрестанный голод и холод, про необходимость не унывать в такие времена, про разные веселые шутки, которыми, в свою очередь, молодцеватый бедняк отражал нашествие на него грозной нищеты; а простой народ с каждой минутой все внимательнее и внимательнее слушает этот рассказ и все любовнее и любовнее потчует занимательного гостя{69}.
– Вы вот что, ваше благородие, – говорит наконец будочник, окончательно завоеванный барским рассказом, – вы подождите на минуту говорить. Я вот по соседству в кабачок сбегаю, полштофика да селедочки захвачу. Заодно уж. Кстати взгляну, дежурный нейдет ли.
Ознакомительная версия.