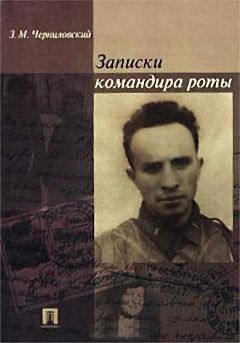25 мая 1942 года.
28
Первое потрясение — расставание с Мамохиным. Второе — дом (полгода не живал в домах), кровать, столовая, налаженный быт. Первое "дело": хищение продовольствия, урезавшее и без того нещедрый паек некоей тыловой части. Командировка в Горький — одно из гнезд преступной банды — гостиница, номер, удобства. Господи, твоя воля, свет, оказывается, существует.
Вслед за тем назначение на должность помощника военного прокурора 43-й Армии — по следствию. Привычная рутинная жизнь? Не совсем. Но, конечно, не фронт. Хотя — как сказать.
Осенью 1942 года 43-я Армия перешла в состав 2-го Прибалтийского фронта. Мы переехали на только что отвоеванные территории, лежащие между Торжком и Демидовом. Демидов, впрочем, еще предстояло отвоевать.
К этому времени Прокурором армии сделался Николай Константинович Дунаев. С ромбом в петлице — бригвоенюрист. Прозорливый, он, когда началась затеянная в ходе войны аттестационная кампания, нацепил себе полковничий погон. Чтобы не стать посмешищем, если не выйдет с генеральством. Так оно и случилось. Умный, начитанный, прекрасный рассказчик и строгий администратор, он меня научил такому, чего не дает ни одна школа. Ибо сам он прошел самую трудную из школ — секретариат Ворошилова.
Один из примеров. Числился у нас в прокуратуре майор от юстиции. Чудовищно невежественный. Дунаев как-то терпел его, ибо редко сталкивался. А доставалось нам.
Но час настал. В самый разгар наступления на Рипшево — с выходом на Витебск — майор этот послал в артмастерские официальный запрос насчет своей "писмашинки", которую не возвращали из ремонта, несмотря на "срочную мою нужду". Кто-то по злобе людской показал бумагу командующему, тот нашел время для разговора с Дунаевым, и Дунаев взревел. А как избавиться?
Подоспела аттестация. Ее поручили мне, и я писал то, что приказывал, а иногда и формулировал сам Дунаев. А в данном случае он изложил свою мысль так: "Должности помощника прокурора армии вполне соответствует". Я возмутился. Не на словах, конечно, а всем своим видом. Встречи против себя Дунаев не любил. "Действуйте, действуйте", — подтвердил свою формулу Дунаев, и глаза его сузились. Я вышел.
На следующий день, подписав одно, и другое, и третье, Дунаев вгляделся в аттестационный лист помощника-майора и тонким нажатием пера зачеркнул слово "вполне". Меня осенило. А окончательное понимание пришло через месяц с приказом Главной военной прокуратуры об отзыве майора в Москву.
В другой раз было иначе, но не менее мучительно. Среди бела дня немецкая команда, благополучно миновав нейтральную полосу, ворвалась в наш окоп, взорвала его и возвратилась восвояси. Дело дошло до командующего фронтом.
На следующий день мы, в прокуратуре, получаем с нарочным пакет. Как назло Дунаев лежал с переломанной ключицей: свалился с лошади (будучи прекрасным наездником), его заместитель К-в находился в одной из дивизий со срочным поручением. Оставался я. В пакете лежало донесение командира полка, из которого вытекало, что во всем виноват командир пулеметной роты такой-то. Внизу, под рапортом, командующий и член Военного совета Ш-в поставили свои подписи под характерной резолюцией: "Судить и расстрелять".
В прокуратуре армии было три лошади. Одна "грузовая", трофейная, послушная, громадного роста, окрещенная невесть почему Евпаторией. Две другие были верховыми, прекрасно выезженными кобылицами. Одну, начальственную, звали Сказкой, мою — донскую — Галькой. Как и дочь. Отчего, может быть, я любил ее нежней, чем обычно, делясь с ней хлебом и — при малейшей возможности — выпуская ее на привольные лесные угодья. Но и она меня отличала, кладя голову на плечо и сопя в ухо…
Поехал я в полк. Взял с собой помощника начальника штаба полка. По-дружески беседуя, проникли в окоп, осмотрели все сколько-нибудь важное, и картина выяснилась очевидная до малейших подробностей. Уповая на пулеметную роту, малочисленную и необученную (5 пулеметов на целый километр фронта), командование полка отозвало стрелковую роту и перебросило ее на участок прорыва.
В донесении был намеренно оболган командир роты, не отходивший от пулемета, несмотря на потерю крови, вызванную раной в бедре. Подлая ложь настигла его и в госпитале: эвакуация была отложена до "расстрелять".
Обратный путь мой был легок и беззаботен. Достигнув усеянного ягодой поля, я пустил Гальку пастись, а сам лег на землю, поглощая бруснику с несвойственной мне жадностью. Но будущая докладная не оставляла и здесь, ибо от того, как доложить, могло многое зависеть. Вера в справедливость еще как-то уживалась с тем, чего следует стыдиться…
Докладная была написана с подробностями, о которых я уж не помню. Целая страница текста. "Принимая во внимание все вышесказанное, прокуратура не находит оснований для привлечения капитана Н. к ответственности, о чем и докладывает на Ваше усмотрение". И подписался "За прокурора 43-й Армии… такой-то".
Отослав сию бумагу, с чистым сердцем отправился в 306-ю дивизию, куда призывали неотложные дела. Именно здесь готовился прорыв фронта, и именно эта дивизия получила титул "Рипшевская".
На следующий день, по приезде, застал я свою канцелярию в смятенном состоянии. На мой вопрос — протянутая бумага. Та самая. На ней резолюция Военного совета: "Просьба подобных глупостей впредь не направлять во избежание неприятных для вас последствий".
"Последствия" меня, говоря по совести, не очень-то пугали, хотя власти у Военного совета было много. Назад в полк? Да хоть сейчас… С тем и пошел к Дунаеву. Он еще полеживал в отведенной ему резиденции — небольшом новом доме, но чувствовал себя лучше.
Выслушав доклад, наморщил нос, посмотрел на меня как на недоросля и сказал назидательно: "Надо было действовать по всем правилам бюрократии. Учишь вас, учишь… Не понимаете? Напроситься на личную аудиенцию и доложить дело в приличествующих выражениях, то есть, согласившись с реакцией Военного совета, доказать в подобающих выражениях, что де — обманули вас, хотели провести за нос".
А дело со всеми теми резолюциями приказал направить нарочным сегодня же в прокуратуру фронта. Ждать пришлось недели три. Вызывает меня сам командующий. Заставляет ждать в прихожей. Встает, выходит из-за стола, подает бумагу. А на ней, той самой, рядом с резолюцией Военного совета жирная, начертанная синим карандашом через всю страницу, надпись: "Тов. Голубев. Если расстрелять, то зачем же судить?" И все.
— Подойдите поближе, товарищ Буква, гляньте на лист.
И, взяв карандаш, вычеркивает мою фамилию из уже подготовленного на подпись Военному совету списка награждаемых орденом Красной Звезды.