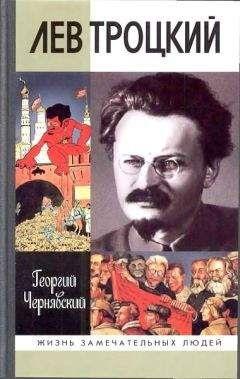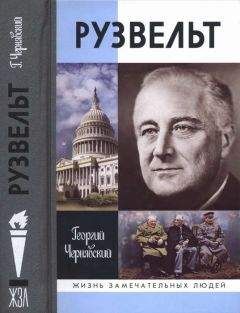Тотчас после начала суда, 3 марта, Троцкий написал статью о нем для газеты «Нью-Йорк таймс», которая была опубликована на следующий день.[1493]4 марта он дал интервью представителю агентства «Гавас», в котором показал фальшь главных обвинений и по адресу подсудимых, и в отношении себя самого.[1494] В следующие дни одна за другой писались статьи об общих задачах этого процесса и его деталях, о людях, которых Троцкий хорошо знал и которые теперь были обречены на гибель от рук кремлевского убийцы.
Апрельский номер «Бюллетеня» открывался передовой статьей «Каин Джугашвили идет до конца», написанной Троцким 17 марта.[1495] Столь резких, исполненных ненавистью публикаций о Сталине Троцкий ранее себе не позволял. «Из-за спины «великого» Сталина глядит на человечество тифлисский мещанин Джугашвили, ограниченный и невежественный пройдоха. Механика мировой реакции вооружила его неограниченной властью. Никто не смеет критиковать его и даже подавать ему советы… Подсудимые, из которых большинство выше обвинителей несколькими головами, приписывают себе планы и идеи, порожденные гением современного Кречинского и разработанные кликой гангстеров… А за стеной Каин Джугашвили потирает руки и зловеще хихикает: какой трюк он придумал для обмана солнечной системы!»
Троцкий был чрезмерно оптимистичен, полагая, что вокруг «Каина» накапливается народная ненависть. В статье отвергался террористический акт как средство расправы с диктатором. «Поскольку вообще нас может занимать личная судьба Сталина, мы можем лишь желать, чтоб он пережил крушение своей системы. Ждать ему придется не так уж долго. Победоносные рабочие извлекут его и его сотрудников-гангстеров из-под обломков тоталитарной мерзости и заставят их сдать на действительном суде отчет о совершенных им злодеяниях».
Как и в других случаях, Троцкий оставался романтиком и утопистом. Души миллионов людей в СССР наполняла не сознательная ненависть к диктатору, а смертельный страх, смешанный с преклонением толпы перед божеством во плоти, вершителем их судеб. Но и в судьбе Троцкого эта его работа не могла не сыграть зловещей роли. Сталин ее, безусловно, прочитал, подчеркивая, видимо, как он привык, цветными карандашами наиболее яркие моменты. Статья, написанная тогда, когда «большой террор» подходил к концу, и «дьявол во плоти», стоявший за спиной всех злодеев, переставал быть ему необходим, явно ускорила решение о переходе от общего замысла убийства Троцкого к реализации этого проекта.
Особое место в публицистике Троцкого последнего года жизни, посвященной внешнеполитическим поворотам Сталина, отводилось советско-германским отношениям. В этом вопросе автор был беспощаден и разоблачителен, проявляя в то же время высокую степень проникновения в глубинную сущность дипломатической активности обоих «заклятых друзей». Отмечалось, что Сталину было присуще восторженное отношение к Гитлеру еще со времени «ночи длинных ножей» 30 июня 1934 года, когда фюрер расправился с внутренней оппозицией в нацистской партии. Лидер альтернативного коммунистического течения был в числе тех немногих наблюдателей, которые отметили поворот Сталина к сближению с Гитлером с момента произнесения отчетного доклада на Восемнадцатом съезде ВКП(б) в марте 1939 года.
Анализу международного раздела этого доклада Троцкий посвятил емкую статью «Капитуляция Сталина», опубликованную во многих странах.[1496]«Отказ от политики «союза демократий», — говорилось в ней, — дополняется немедленно униженным пресмыкательством перед Гитлером и усердной чисткой его сапог. Таков Сталин!» Троцкий, правда, был осторожен. Он не делал окончательного вывода, опирается ли доклад Сталина на достигнутое соглашение с Гитлером или это пробный шар. Склонялся он ко второму варианту, и, как свидетельствуют опубликованные через много лет документы,[1497] был в этом вопросе полностью прав.
В следующих статьях автор показывал, как Сталин стал «адъютантом Гитлера» после заключения договора о ненападении 23 августа 1939 года.[1498] Хотя Троцкий не знал о дополнительном секретном протоколе, разделившем сферы господства в Восточной Европе, он понимал, что такое соглашение существует. Для этого не нужно было быть особо тонким наблюдателем. На глазах у всего мира происходила совместная агрессия Германии и СССР против Польши, а затем аннексия Советским Союзом балтийских государств, а также Бессарабии, Северной Буковины и части территории Финляндии. Все эти события никак не могли произойти без какой-то дипломатической договоренности на весьма высоком уровне, тем более что раздел Польши был постфактум зафиксирован советско-германским договором о дружбе и границе от 28 сентября 1939 года, ставшим достоянием мировой печати.
Троцкий показывал, что роль Сталина в союзе с Гитлером была вспомогательной, что Гитлер по собственной воле предоставил Сталину свободу действий в отношении балтийских стран и Финляндии. Причины же вступления Сталина в союз с фюрером Троцкий видел в том, что СССР не может вести большую войну, что таковая война неизбежно вызовет глубокую реакцию со стороны народа и поэтому Сталин стремился уклониться от большой войны. Тем не менее в публикуемых статьях он высказывал убеждение, что война Германии против СССР была неизбежной, что, все более ощущая это, Сталин в 1940 году стал давать понять западным деятелям, что при известных условиях он «может пересесть на другого коня».
Троцкий стремился не быть вульгарным догматиком. Изучение суровых мировых реальностей порой заставляло его поставить под сомнение утопические схемы. В статье «СССР в войне» он делал поразительное допущение: «Если бы международный пролетариат, в результате опыта всей нашей эпохи и нынешней новой войны, оказался неспособен стать хозяином общества, то это означало бы крушение всяких надежд на социалистическую революцию, ибо никаких других более благоприятных условий для нее нельзя ждать». «Как ни тяжела эта вторая перспектива, но, если бы мировой пролетариат действительно оказался неспособен выполнить миссию, которую возлагает на него ход развития, не осталось бы ничего другого, как открыто признать, что социалистическая программа, построенная на внутренних противоречиях капиталистического общества, оказалась утопией».[1499]
И тем не менее такого рода допущения он отбрасывал, буквально стряхивал с себя эту непосильную ношу, вновь возвращался к утопической перспективе низвержения советской бюрократии и международной пролетарской революции. «У нас нет в настоящий момент, — писал он в этой же статье, — никаких оснований менять нашу принципиальную позицию по отношению к СССР».[1500]