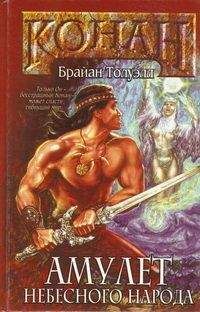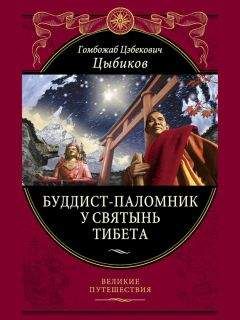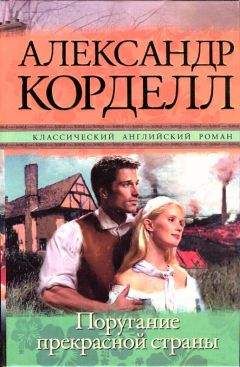(…) Проспала я недолго и проснулась от какого то тихого шушуканья. Открыв глаза, увидала я старушонку, мывшую меня в бане. Присев на корточки около постели, она что то бормотала. Письменно передать ее говор совершенно невозможно, он напоминал какое то птичье бормотанье, сопровождаемое хихиканьем к месту и не к месту. «Ты что, Анна?», — спросила я, вспомнив, что так ее называла хозяйка. «Я мол не на Светлояр та идешь та?», — поджимаясь как-то и косясь на бок, пробормотала она. Удивленная я села в постели и спросила с забившимся сердцем: «А разве к нему теперь ходят?» — «Та как же та, — поспешно зашептала старушонка, оглядываясь почему то по сторонам. — На Владимирску та сама мольба. Туда недалече, до Шалдежа верст тридцать, да от Шалдежа 25, коли ты туда, я та, скажутка, у нас идут, обратной та тебя и свезет в Шалдеж, а там мигом, курочкой побежишь, зайчиком поскачешь, близко то всего двадцать пять, я мигом, ишь ты Люнда та, мы та на ней не бывали?! та Китеж град та! пресветлый Исус батюшка, я шнурочиком вытянуся, мигом сейчас, Микола мученик», и она убежала, подскакивая и помахивая руками.
Я легла опять. Голова начинала сильно болеть, но в душе было такое чудесное чувство, хотелось молиться и плакать. Ведь я совсем не думала, что Светлое Озеро здесь около Семенова и окончательно забыла, что его праздник 22-го июня. А то, что я в эти числа как раз выехала в мое странствие, было чистою случайностью и, видя в этом невидимое решение чудесное, я чувствовала себя растроганной и невыразимо счастливой.
Видеть Светлое Озеро и холмы, где скрывается невидимый Китеж град, было всегда моей тайной заветной мечтой, и, как всегда, боясь осуществлять ее, я никогда не старалась узнать, где же он находится. Но здесь в Заволжье, как я поняла потом, этот град всем настолько близок и необходим, что к нему относятся так же, как к Святой Земле, если не больше, потому что она далеко и недостижима, а к Светлояру можно пойти каждый день. И идут туда тысячи. До сих пор многие, идя туда, хранят надежду тайную, если не увидать на вечерней заре отражение золотых глав Китежских соборов в светлых водах озера, то хотя сподобиться услыхать по росе малиновый звон Китежских колоколов. Это те, кто через всю жизнь пронес святую веру в чудо, кто сохранил нетронутым сердце чистое, и как сказал Христос: «Блаженни чистии сердцем, яко тии Бога узрят».
* * *
Чуть более десяти лет назад в церковных и околоцерковных кругах решался вопрос о канонизации убиенной Царской семьи. А в связи с этим требовала осмысления и проблема влияния на семью Государя и Григория Распутина. Тут-то и всплыли извлеченные из забвения «Воспоминания» Веры Александровны. Тут-то началось теперь уже посмертное ее страдание, тут-то и понеслись в адрес покойной резкие, категоричные, да просто неслыханно грубые и жестокие эпитеты, которыми награждали автора воспоминаний свои же русские православные историки. Конечно, она, как человек и как живая у Господа православная душа никому им ни интересна была, ни нужна. Через эту давно умершую, прожившую большую часть жизни в захолустье старушку можно было просто перешагнуть, но очень сильные, яркие, объективные, мастерски написанные воспоминания просто так отбросить было невозможно — их как документальный источник приняла во внимание Синодальная Комиссия по канонизации святых и использовала затем в Докладе председателя этой Комиссии митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 3–8 октября 2004 года.
Все это не могло способствовать желанному для некоторых людей прославлению Распутина в лике святых (вопрос о том и сейчас не снят с повестки дня). Значит, нужно было любыми путями очернить и опорочить автора этих воспоминаний. Чем и занялись наши православные собратья…
Прежде всего, Веру Александровну обвинили в плагиате. Мол, не ее это рука, и воспоминания о Распутине не ею написаны, это подлог, поскольку ее прежние дореволюционные книги — та же «Сестра Варенька», — написана совсем в другом ключе, — «типичная дамская проза», а текст воспоминаний 1924 года свидетельствует о талантливой и профессиональной руке. О наветах личного плана на Веру Александровну я и не говорю…
Конечно, мне было очень больно за Веру Жуковскую, но еще более меня поразило состояние душ наших православных собратьев, та ненасытная злоба, политическая корысть, ради которой можно было запросто сметать с лица земли все то, что станет ей помехой на пути, не считаясь ни с духом нашей веры, ни с Заповедями Господними…Словно эти люди оставляли свое христианство в храме, когда выходили из его врат наружу.
И тут все менялось: и отношение к грешникам, и отношение к прошлому, и вообще отношение к жизни. Вместо Божиих законов, вместо хотя бы на словах признаваемой Христовой Правды вступала в силу какая-то иная, человеческая правда, а вернее, правды, потому что счета им не было…
Как и к грешникам, так и по отношению к прошлому эти люди умели пользоваться только двумя красками: черной и белой. А вот третий путь — Христовой Правды они никак не могли понять и принять. Черной пользовались обличители, а белой с примесью розового — ностальгирующие, которые тоже не хотели и не могли видеть в прошлом никакой не угодной им ни правды, ни противоречий, но сложностей, ни несовершенств, — всего того, без чего не может существовать этот земной грешный мир.
А где-то совсем рядом — рукой подать — пролегал третий — единственно верный, надежный и святой путь, где только и могли пресечься, «сретиться» Любовь и Правда, как сказано о том в 84 Псалме: «Милость и истина сретостеся, правда и мир облобызастася: истина от земли возсия, и правда с небесе приниче: ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред ним предидет, и положит в путь стопы своя» (Пс.84:11–15).
«Где нет «милости», где «ожесточение», там нет «Истины», — писал своему духовному сыну святитель Игнатий (Брянчанинов). — «Где нет «мира», там нет «правды». А состояние души, чуждое Божественных Истины и Правды, нельзя признать «состоянием от Бога».
Воплотившийся Господь и открыл этот путь истинно христианского сердечного познания, в котором только и можно было обрести и заветное чувство родства, и нелицемерную любовь и сострадание, и научиться слышать боль других людей — стать христианами, не убивающими, но врачующими несовершенства мира даже независимо от времен и сроков. Но те немногие, христиане, которые пытались встать на этот путь, оказывались неугодными и тем, кто с дегтем, и тем, кто с елеем. Они не закрывали глаз на больное, достойное сожаления, на заблуждения и уклонения от истины и даже на падения своих предков, но пытались осмыслить, понять, и объяснить подлинную историю этих болезней, осмысляя их не только как чужие, но и как свои, как единую боль единого грешного человечества, востекая к престолу Божию с горячей молитвой «за всех и за вся». И было в этом, исполненном сострадания и боли любящем и молитвенном сыновнем взоре нечто такое, что могло врачевать даже очень древние, застарелые раны…