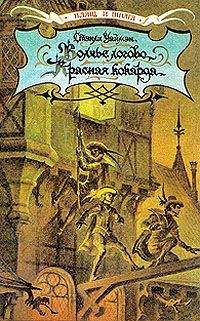На все эти вопросы ответ мог быть только один: «Всё возможно! И если мы решимся на этот последний шаг, всё дальнейшее будет уже зависеть от случайности, от нашего счастья, от «везения» или «невезения».
Кроме того, мы ведь прощались с нашей родной страной! И сердце сжималось от боли, от горечи, от незаслуженной обиды изгнания, на которую нас обрекал большевистский режим. Конечно, мы и не требовали к себе милости от этого режима. Все мы с оружием в руках боролись с ним, мы были и остались его врагами, и большевики были правы, что снабдили нас волчьими паспортами с пометкой «Бывший белый комсостав». Теперь, правда, они как будто готовы сравнять нас в правах со всем остальным населением страны, но в каких «правах», — не в правах, а в бесправии, и не нам попадаться на эту удочку!
Выбор сделан, надо идти в Китай.
И все-таки мы никак не могли покинуть этой высоко лежащей горной площадки, мы жались к ее краю, к обрыву в долину, только что нами форсированную, и глаза наши неотводно смотрели в ту сторону, где должен был быть Владивосток, море.
С нашей высоты даль была видна на много, много верст. И там в стороне моря, на горизонте, над вершинами сопок, поднималась в небо сизая дымка тумана…
Сердце сжималось, ныло, как при прощании с дорогим человеком. И мы молчали и глядели на северо-восток.
Но вот один из нас поднялся, вскинул мешок на спину, передернул плечами, чтобы он лучше лег. Кто это был? — помнится, Степанов.
И он сказал глуховато:
— Долгие проводы — лишние слезы, господа. Пора идти!
И мы встали. Мы обнажили головы и перекрестились. И затем, не оглядываясь, миновав столб, вступили на китайскую землю.
Тотчас же мы нашли чуть заметную тропу и пошли по ней. Тропа повела нас книзу, ибо обозначился спуск в небольшую долинку, и самое большее через четверть часа пути мы оказались у ручья, мирно журчавшего по мелкому, песчаному дну.
Уже вечерело — мы не менее чем с час отдыхали у столба. Теперь, находясь на китайской земле, мы не опасались встречи с советскими пограничниками, к тому же мы устали от продолжительного подъема на хребет. И потому было решено здесь, у хорошей воды, остаться и заночевать.
Мы, не торопясь, собирали топливо для костра и сделали запасы его в таком количестве, что валежника и нарубленного нами сухостоя вполне должно было хватить на всю ночь. Устроили каждый из нас для себя и хорошее, удобное ложе из мелких ветвей.
И только когда со всем этим было покончено и на берегу нашего ручья запылал хороший костер, мы принялись и за приготовление пищи, и за кипячение воды для чая.
Скоро стемнело. И когда чай был готов и мы принялись за приготовление чумизной каши, над нами была уже ночь. Настроение у всех нас было теперь самое благодушное: что сделано, то сделано; мы все-таки уже в Китае, благополучно ушли от красных, и думать теперь надо не о прошлом, а о будущем. И, кажется, в первый раз среди нас начались разговоры о Харбине, мы стали строить предположения, как нас встретит этот город и как мы будем устраивать в нем свою жизнь.
Мы мирно беседовали, озаряемые отблесками костра, а вокруг нас важно шумели деревья, казалось, приблизившиеся к полянке нашего бивака.
И вот Антик говорит, облизываясь от предвкушения насыщения:
— Господа офицеры, каша готова!
Среди нас, обсевших костер, — движение. Каждый из нас собирается потянуться к котелку, который Антик отодвигает от огня
И в этот самый миг мы отчетливейше слышим неподалеку собачий лай.
Пес несколько раз тявкнул в кустах со стороны советской границы.
Мы вздрагиваем и настораживаемся.
Собака в этих глухих местах? Она не может быть без людей. И в наших головах проносится отчаянная мысль: «Это советские пограничники с овчаркой-ищейкой. Они видели нас, когда мы вчера на рассвете пробирались мимо Занадворовки, и теперь преследуют нас. Собака подвела их к нам. Они в ста шагах от костра. Мы в его свете видны как на ладони. Сейчас они откроют огонь и мигом перестреляют нас, как куропаток!»
И в этот момент зловещий собачий лай, какое-то хриплое тявканье повторяется снова и — ужас, ужас! — уже ближе.
Нельзя медлить ни минуты, если мы хотим остаться живыми!
Без уговора, безмолвно, все мы вскакиваем и быстрее ланей исчезаем в кустах, покидая опасно освещенное место.
Я ухнул в какую-то яму, исколов себе руки об иглы колючего куста. Ухнул и притих. Притих и слышу, как где-то поблизости от меня сопит Хомяков.
И снова лай, теперь уже значительно дальше. И теперь я начинаю понимать, что голос животного хотя действительно и похож на лай, но едва ли может быть лаем. Тявканье-то тявканье, но, пожалуй, и не собачье!
И тотчас же я слышу голос Антика:
— Господа, дык ведь это же дикий козел!
Кто-то начинает хохотать. Мичман Гусев кричит, обращаясь к Антику:
— Почему же ты, чертов следопыт, не сказал нам об этом раньше?
— Некогда было сообразить, — отвечает тот степенно. — Все побежали, дунул и я. Вылезайте!
И мы снова сходимся на нашей полянке, поцарапанные и несколько сконфуженные.
— Черти! — сетует Антик. — Котелок с кашей опрокинули! Что кушать будем? Опять, стало быть, варить надо. Козла от собаки отличить не могут!
— А сам? — негодуем мы. — Сам-то хорош, а еще таежный житель!
— Воображаю, — говорю я, — что с нами будет, если мы увидим настоящего тигра! Это ужасно!.. Я за себя не ручаюсь!
— Я тоже, — поддерживает меня Хомяков. — Я даже не знаю, как перед ним держаться!
обратись к нему с пожеланием доброго здравия на французском языке! — советует мичман Гусев.
— И обязательно сделай реверанс!
— А ну вас! — злюсь я. — Сами-то хороши. От козла в кусты!.. А ты, Степанов, еще военный летчик!..
А над нами — ночь, и мы, шутливо переругивающиеся в этих глухих и опасных местах, — совершенно одиноки.
Сварив кашу, плотно ужинаем и засыпаем. Под утро, когда ночь начинает свежеть, мы просыпаемся. Костер едва теплится. Кто-нибудь встает, подбрасывает в огонь топлива. И снова той стороне тела, что обращена к огню, становится тепло, но зато другой еще холоднее. И мы вертимся, кутаясь в свои пальто. Но если укроешь ноги, холод ночи леденит плечи или спину; укроешь спину — холодно ногам. И нет от этого спасения!
А над вершинами деревьев уже мутно побелевшее, рассветающее небо.
Отсюда мы начали наш путь уже по китайской земле.
И только здесь мы, наконец, по-настоящему познакомились с тайгой и ее жизнью. Мы вступили в места чрезвычайно глухие, по которым бродили лишь редкие охотники-зверовщики — мы видели несколько их пустующих фанз-зимовок — да женьшеньщики. Людей мы долгое время не встречали.