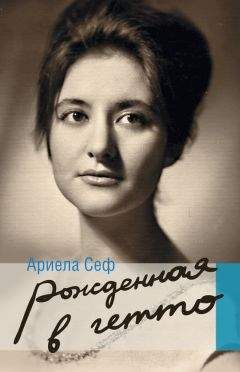– Ну и хорошо! Не понадобится, пришлешь назад, нам очень пригодится, у нас такого нет.
Жили мы хорошо. Деньги всегда лежали в ящике стола, и кому надо, их брал. Когда кончались, занимали у домработницы. Но выяснилось, что на мою отправку в Париж, на такой серьезный расход, у нас денег не хватит, и заняли их у вернувшихся из лагеря тети и дяди. Они жили не так безалаберно и уже успели накопить.
Муж мой по истечении срока визы вернулся во Францию без меня, дождавшись, правда, пока меня выпишут из больницы, куда я попала в конце лета, за несколько недель до нового учебного года. Перешли мы ночью на другую сторону бульвара в 24-ю Городскую больницу, и там с острой болью меня пришлось оставить.
Палата была на шестнадцать человек. Муж испугался. На следующий день в больнице появился врач французского посольства. За ним с визитом стали приходить знакомые французы: коммерческий советник с женой; его отец был до войны послом в Литве. Явились друзья мужа из культурной миссии. Я думаю, им было интересно не только мое самочувствие, но и обстановка. Вряд ли до этого им приходилось побывать в обычной советской больнице. И все это в 1961 году.
В отделении начался переполох. Не дожидаясь результатов анализов, меня решили быстрее прооперировать и отправить восвояси. И вот после этой больницы я пришла в институт оформлять академический отпуск и собираться в Париж.
В самые первые дни, как только улетел муж, в институте организовали внеочередное комсомольское собрание, чтобы меня из комсомола исключить. Наш курс неясно понял задание «старших» товарищей и гнать не стал, а вынес выговор, не помню за что. Тогда парторганизация созвала комсомольское собрание всего института, и выгнали меня за моральную неустойчивость. Я в истерике добралась до дому и не могла даже сквозь рыдания объяснить приехавшему из Каунаса отцу, что случилось. Он подумал, что у меня швы разошлись. А когда узнал, в чем дело, то чуть не убил:
– Как ты, идиотка, так можешь пугать отца?! Что, тебя зарезали, что ли?!
За несколько дней до этого меня вызвали в райком комсомола. Там милейший молодой человек, с открытым лицом, голубоглазый, красивый, спросил меня:
– Слушай, ты такая симпатичная девчонка. Что, на тебя русских ребят не нашлось? Зачем тебе этот капиталюга француз?
Я что-то промямлила, что он левый, но это не имело никакого значения. Из института меня тоже отчислили.
А там уже не помню: была в полном ступоре, помню только вокзал в Бресте.
На вокзале стояла вся наша семья, и первый и единственный раз в жизни я увидела слезы отца. Он заплакал первый. После него начался общий рев. Плакали даже проводницы, видимо, жалели остающуюся семью. Даже таможенница смахнула слезу и разрешила провожающим побыть в вагоне до отхода поезда. Случай небывалый.
В Париж путешествие длилось больше двух суток, и только подъезжая к Берлину, я увидела разницу двух миров. В Восточном Берлине проезжаем глухую стену; кругом серо, безлюдно, бегают по вагонам пограничники с овчарками, а в западной – прямо на вокзале елка; чувствуется предрождественское настроение; везде украшения, реклама, мороз, а люди без головных уборов.
В Париж я прибыла в самое Рождество. На вокзале Gare du Nord меня уже встречал муж и его кузен. Мы сразу отправились праздновать в семью кузена. Слава богу, в Париже было на редкость холодно, и мое большое твидовое пальто на ватине с песцовым воротником и такой же ушанкой большого смеха не вызвали, хотя столько меха в эту пору во Франции можно было увидеть только в голливудских фильмах.
Я раздала подарки: икру, водку и была главным аттракционом этого рождественского вечера. Кузен только недавно вернулся раненый с алжирской войны. Меня очень удивило, как в одной семье за праздничным столом горячо, дело доходило почти до драки, спорили о правомерности владения французами Алжиром. Раненый кузен защищал алжирцев.
– Реакционер, фашист! – кричал кузен.
– Враг Франции! – брызгая слюной, орал сыну хозяин дома.
Все закончилось рождественской индейкой, замечательным шоколадным «Поленом» и прощальными поцелуями.
На следующий день, вечером, мы отправились в кафе «Flore». Я восприняла это экзистенциалистское кафе, одно из самых знаменитых в мире, как норму. Рождественские каникулы, народу не протолкнешься, публика красочная: кудрявые негры, длинноволосые пожилые мужчины с помятыми лицами и огромными мешками под глазами, курящие шумные женщины. Люди оказывались известными писателями, музыкантами, журналистами. Друг друга все приветствовали, целовали, поздравляли с Рождеством. Все это никакого впечатления на меня не произвело. В тот же вечер муж познакомил меня с молодой русской женщиной, очень симпатичной, женой знаменитого журналиста, Нелей Курно. Так в первый же вечер в Париже я приобрела подругу на всю оставшуюся жизнь. Увиделась с ней повторно только через месяца три-четыре.
Перед самым Новым годом мы уехали на машине к родителям мужа в Нант. Ехали долго. В Нанте было двенадцать градусов мороза. Кругом только и говорили о замерзших, умерших от холода, оставшихся без отопления.
В семье мужа меня очень ждали. Думали увидеть толстуху на маленьких ножках. Я так послала свои размеры для покупки свадебного платья. Русские от французских отличаются на четыре размера, а обувь – на два. И они облегченно вздохнули, когда я сняла свое огромное твидовое пальто.
Всю неделю перед моим приездом у родственников шли консультации со священником. Как быть? Принимать ли меня? Я ведь мало того, что из Советского Союза, так еще и еврейка. А они правоверные католики, да еще их семья потеряла половину своих денег на русском дореволюционном займе. Священник разрешил меня принять; это было по-христиански, и посоветовал хорошо ко мне относиться, ведь я приехала из такой «ужасной» страны, и нужно проявить милосердие. У всех родственников, у его родителей камень с сердца упал. Обо мне стали заботиться, баловать. Все готовились к новогодним торжествам. Я тогда не могла догадаться, что праздничный обед начинался в час дня и заканчивался ночью, плавно переходя из обеда в полдник, а затем и в ужин. Не знала, что французы помнят, что они ели год назад в это же время. Целый день обсуждалась только еда.
У мужа было две сестры. Одна из них ушла в монастырь. И первого января мы поехали в доминиканский монастырь навещать мою новую родственницу. Я была в полном своем зимнем наряде, а она встретила нас в длинном черном балахоне и сабо на босу ногу. Я в пальто на ватине в холодном монастыре очень мерзла. Как она – не знаю. Они по восемь часов молились, по восемь – работали и по восемь – спали в неотапливаемых кельях. Правда, потом она тяжело заболела, и монастырь пришлось покинуть.