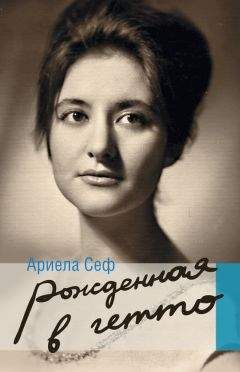– Да пригласи ты ее за наш столик. Пусть посидит, поест, и бегать к ней не надо будет.
Меня подвели к столику. Я была в коротком светлом платье, явно не для кабаре той эпохи. Посадили рядом с Володей Поляковым, гитаристом и исполнителем цыганских романсов, братом знаменитого художника-модерниста Сержа Полякова. Начали спрашивать, что мне заказать. Я засмущалась и стала лепетать, что я уже поужинала. Мне предложили выпить.
– Шампанского, водки?
– Да нет, нет, не надо, я уже чаю попила.
И тут Володя Поляков на меня шикнул:
– Не хочешь – не ешь и не пей, другим не мешай. Шампанского ей! Розового, пожалуйста!
Откупорили новую бутылку. Шампанского на столе было полно, но не розового, а стоило оно тогда уже франков восемьсот, и с каждой откупоренной бутылки артист получал десять процентов. В тот вечер они достались Володе. Потом мне заказали икры, на которую я даже не посмотрела, а под утро друзья привезли меня к себе. Там я провела остаток ночи и начало следующего дня, а вечером опять поехала с ними на работу. Это были последние рабочие дни перед закрытием сезона. Было шумно, меня опять пригласили посидеть с их гостями. Опять предлагали поесть и выпить, опять рассказывали, что я из Москвы, все удивлялись, расспрашивали, угощали. Опять заработала проценты, но на сей раз их забрала она. Ведь я маленькая, стесняюсь.
После этого вечера хозяйка предложила:
– Приходите после отпуска. А вы, кстати, петь умеете?
– Да нет, не умею.
– Что, совсем не умеете?
– Ну, так, чуть-чуть.
– А плясать?
– Да нет, я устаю. Вообще-то я училась при музыкальном театре, но совсем недолго, в детстве. Ну, еще в самодеятельности, в школе. Еще в школе Айседоры Дункан, но я очень устаю. И в музыкальной тоже училась.
– Ладно, приходите осенью, после отпуска, посмотрим. Да и платье купите какое-нибудь приличное.
Видимо, я неуместно смотрелась в своем скромненьком наряде на фоне пурпурных бархатных кресел и банкеток, свечей и наряженных в красные косоворотки официантов; я просто проваливалась и исчезала в этих банкетках.
В июле я уехала с вернувшимся мужем в их родовой дом в Вандее. Он немного рассказал родителям о своих похождениях, так что они стояли передо мной на задних лапах, всей семьей, замаливая его грехи. Мать с раннего утра начинала готовить. Готовилось в доме только то, что я люблю. Сначала это был завтрак с теплыми круасанами, которые мне подавали в кровать из-за слабого здоровья. Сразу после этого она принималась за обед. Где-то к двенадцати часам я выползала в кружевной ночной рубашке и в халатике, купленных в не очень дорогом Маркс и Спенсере тетей в Англии, за что меня прозвали мадам Помпадур, но вполне доброжелательно. Из-за меня каждый день ездили в Сабль До Лонь на море. Ведь я любила загорать и купаться. А мать все готовила и готовила. Весь распорядок дня изменился: ни тебе вовремя обеда, ни ужина. Есть начинали, только когда мы появлялись с пляжа, а мать все стояла начеку, ждала; отец ей не противоречил, он со всем этим безобразием смирился. Слава богу, к обоюдной радости это длилось всего один месяц. За месяц произошли знаменательные события в их семье.
Сестра мужа, монашка, заболела, и перед ней стоял выбор: покинуть монастырь или окончательно стать инвалидом и может даже умереть. На общем семейном совете все решили, что здоровье достаточно уважительная причина, чтобы не отдать себя полностью служению Господу. Конечно, считалось позором выбрать послушание и от него отказаться. Но болезнь прогрессировала, и все это было еще до пострига; она еще не приняла окончательно обет монашества. Семья была в трауре. Стыдно перед соседями и общественностью. Но этот позор пришлось пережить. У дочки началась быстротечная чахотка. А я безумно радовалась, что вот моя ровесница-родственница сделала такой выбор. Муж предупредил меня, чтобы вслух я этого не произносила. Перед всеми соседями и священником оправдывались, делали печальные лица. Уход из монастыря считался почти преступлением, и Жермен, так звали мою невестку, стала жить в миру, избегая людей. Тогда я ее видела в последний раз. Через два года она родила абсолютно черного ребенка от какого-то проезжего матроса. В Нант их приплывало сотнями со всего света. Мне ее искренне было жаль. В начале шестидесятых черный ребенок в провинциальном Нанте неизвестно от кого! Но тогда я уже больше с ней не встречалась.
После каникул я пришла в кабаре «Нови» в новом, длинном, черном, облегающем платье с глубоким овальным вырезом, которое мы купили с подругой Нелей в бутике журнала Elle. Дешево и очень стильно. В новом наряде, с наклеенными ресницами я стала как-то позаметней.
Старик-хозяин, господин Новский, в молодости белый офицер, и его жена, важная дама в дорогих украшениях, всегда подчеркивающая свое дворянско-аристократическое происхождение, проверить его никто не мог, меня даже похвалили:
– Хорошо, мадмуазель, будете петь… в хоре.
Хор состоял человек из десяти, не считая оркестра. Настоящей сцены не было, все происходило на небольшом пятачке, рядом с публикой.
Я тоненьким фальцетиком запевала:
– Полюшко, поле, полюшко широко поле .
Затем вступал настоящий хор, и мои скромные возможности не имели никакого значения. Так начинался спектакль. Ближе к середине вечера знакомые клиенты приглашали артистов за столики, особенно моих друзей и Володю с его знаменитой гитарой. Иногда там пели Валя и Алеша Дмитриевичи. Люди приходили специально из-за них, повеселиться, пообщаться, потратить деньги. Побывали там многие знаменитости Парижа: и Ив Монтан с Симоной Синьорэ, и Ален Делон с Роми Шнайдер, была с большой компанией Бриджит Бардо. Разгоряченные французы бросали через плечо и разбивали опустошенные от шампанского бокалы. У них это считалось обязательным русским обычаем. Но лучшими клиентами были американские евреи русского происхождения. Тут-то и разыгрывалась их ностальгия. А я вызывала у них, видимо, отеческие чувства. Они иногда приходили по нескольку раз подряд во время пребывания в Париже, иногда с дородными женами, а иногда с какими-то щебечущими «канарейками». Приходили к нам и русские, оставшиеся на Западе после Второй мировой войны, разбогатевшие в основном в странах Латинской Америки. Их было немного. Помню одного Владимира Ивановича с жестким водянистым взглядом, огромным бриллиантовым перстнем и красавицей женой, дочерью белых эмигрантов. Обычно эти две категории не смешивались, но так случилось, что денег у ее родителей совсем не было, и Анна вышла за него замуж. В ушах у нее тоже были бриллианты размером с орех и на шее колье. И если бы Герасим все это повесил на шейку Муму вместо камня, то она бы обязательно утонула. Такую нарядную он выводил жену в свет на все балы. Люди ахали. А когда они возвращались домой, Владимир Иванович все бриллианты снимал и запирал в сейф. Иногда он напивался и избивал ее из ревности, пусть даже к столбу. Это она мне рассказала как-то, когда мы уединились в уголке, в глубоких креслах нашего шикарного кабаре.