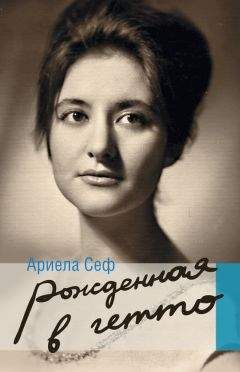Надо было меня как-то приспособить к делу, чтобы я что-то смогла спеть хотя бы за столиком. Фальшивила ужасно. Единственное, что у меня получалось, так это песня Булата Окуджавы « Вы слышите, грохочут сапоги ». Я пела с таким чувством, что они даже прослезились, потом улыбнулись. Знала я еще и песню моего двоюродного дяди Эдуарда Калмановского « Тишина », которую слышала на репетициях раз сто.
Вызвали «концертмейстера».
– Михуясик, позанимайся с ней, чтобы она свою «Тишину» хоть правильно пела, ну и еще что-нибудь, много не надо.
Михуясик бился со мной честно; результаты были средние, но за столиком я спеть, особенно под гитару Володи, свои песни могла. Мне стали давать деньги, брала их не я сама. Что с меня взять: маленькая, мне неудобно, стесняюсь. Мое мнение, кстати, никто и не спрашивал.
Меня стали приглашать после кабаре поесть устриц в открытые ночью рестораны les Halles (Чрево Парижа) или на Монмартре, особенно шоколадный король Менье. Не могла же я пойти одна, почти малолетка, с чужими людьми. Со мной тащились Он, Она, Володя, который каждую ночь до рассвета ставил на скачки (так он проигрывал все свои совсем немалые деньги). Все ели, пили до утра за счет приглашавшего, а я, уже изнемогая, пила валокордин и заедала лимоном и еще чем-то, чтобы не пахло аптекой.
Я научилась довольно ловко подвигать полный бокал соседу, менять свой на пустой или с простой водой, соображать по тому, как гость достает кошелек, скупой он или щедрый.
Вскоре я стала уезжать одна на такси, которое заказывал наш швейцар князь Орлов. Он мне очень сочувствовал: у нас у обоих были проблемы с сердцем. Ему понравился мой валокордин. Таксисты в основном приезжали русские, пожилые, уставшие и смотрели на меня недоброжелательно, особенно морщились от аптечного запаха, которого я уже в такси не стеснялась. Все твердили:
– Не ваше это место, милая барышня. Помрете.
На седьмое ноября я должна была поехать в турпоездку в Москву, повидаться с родителями. Я очень готовилась, и когда гости кабаре об этом узнавали, мне все совали деньги на подарки родственникам. Кто-то просил передать приветы и подарки своим родным. Эти деньги попали лично ко мне, их никто не посмел присвоить. И когда я стеснялась, меня уговаривали:
– Ты ж к родителям едешь. Тебя же туда пускают, купи всем подарки: братьям, сестрам, всем-всем.
В это время как раз к нам пришел господин из Америки, со всеми перецеловался, увидел меня новенькую из Советского Союза, очень заинтересовался, приглашал приехать в Америку и дал визитку. Это был сахаропромышленник Терещенко и, когда узнал, что я еду в Россию, очень за меня порадовался, просил передать привет своим родственникам и дал значительную сумму.
Приходил к нам и меховой король Соломон. Он для поездки в Россию хотел мне даже шубу подарить, но я за ней не поехала. Познакомились мы с ним еще раз уже через десять лет, при совсем других обстоятельствах. Он меня вспомнил. Вспомнил меня и мой друг Андрюша Шимкевич, с которым я тоже познакомилась ровно через десять лет. Он уверял, что вспомнил, как я плясала. Я ему объясняла, что я не пляшу, что устаю, что он прекрасно это понимает, а он настаивал:
– Плясала и все тут. Плясала очень даже лихо и все.
Он помнит. Я свое, он свое. Наконец, я вспомнила. Да, действительно, однажды Она заболела, а какие-то клиенты специально пришли посмотреть, как Она танцует « Эх, полным-полна моя коробочка », и мне пришлось ее заменить – больше было некому. Мадам Новской лет шестьдесят пять, другая дама хорошо поет, но полная и неповоротливая. Меня нарядили в Ее костюм, я выпила валокордину и пошла. Все прошло удачно, до конца дотянула.
Я стала старательно репетировать. Мой приятель-кардиолог притащил мне огромный магнитофон. Тогда это была редкость. И мы с Нелей как две обезьянки все на нем вертели, пели и прослушивали. Неля говорила, что у меня появился явный прогресс.
Мое появление, столь незначительное, очень испортило обстановку в кабаре. Посетители стали замечать меня, пусть не большую певицу и не русскую красавицу, зато молоденькую студентку из современной России. И денег мне давали больше и охотнее, тем более что я их не вымогала. Пусть они ко мне мало попадали, их брали мои друзья.
Там работала женщина лет сорока пяти, воспитывала ребенка, пела намного лучше меня, но ее доходы стали падать, друг у нее был какой-то полицейский чин…
Долго так продолжаться не могло. Тот же мой кардиолог, которого я приглашала в гости, чтобы отвезти меня пораньше домой, понял – добром это не кончится и посоветовал уносить ноги. И я, сославшись на экзамены, весной из кабаре ушла.
В 1961 году сразу после операции меня из 24-й Городской больницы выписали в ужасе от моих гостей, иностранных посетителей. На ногах я почти не стояла. По ходу дела выяснилось, что у меня что-то не в порядке с сердцем и, видимо, серьезное. Дали мне направление в институт Бакулева, в отделение доктора Бураковского, который занимался детскими пороками. Там все блестело. Здание было новое, и палаты на двух, максимум трех человек.
Владимир Бураковский был восходящей звездой в детской сердечной хирургии и всю диагностическую аппаратуру, которую Советский Союз закупил, отправили к нему. Туда же приехала целая бригада врачей и физиологов, специалистов из Лондона, из Hammersmith Hospital, эту аппаратуру устанавливать и учить наших на ней работать. Гости делали зондирования, оперировали на открытом сердце, а затем уехали к себе, но молва об этих чудо-врачах осталась, и нам, естественно, о них рассказали.
Я в эту больницу сразу не легла. Времени не нашла; дождалась отъезда мужа, оформила все документы на свою поездку и только после этого дала согласие родителям лечь в эту больницу, после всех хлопот, и выяснить, что же у меня за порок.
В палатах у пациентов от зондирования на руках оставались огромные шрамы; у детей распиленные вздутые грудные клетки после операций. Далеко не все они были удачные. Детки десяти – двенадцати лет мужественно все переносили и надеялись на выздоровление. Мне стало очень страшно, а еще страшнее моей маме. Она очень разумно решила, что зондирование меня не вылечит, а надо будет, так я смогу его сделать в Лондоне у тех самых английских врачей. У них, мол, опыта побольше, и мне так срочно не нужен диагноз.
Без всякого зондирования в больнице предположили два диагноза: один операбельный, а другой – нет. Так я и уехала с «сердечной» интригой в Париж.
Месяцев через шесть, где-то ближе к лету, я приехала к этим светилам в Лондон. В Париже были точно такие же специалисты, и я говорила по-французски, и у меня было социальное страхование, но для меня и моей семьи авторитетами оставались только англичане, посетившие Москву.