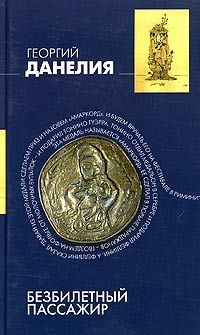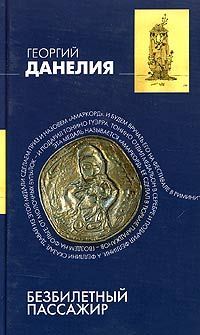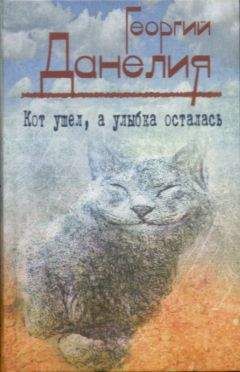Ознакомительная версия.
– Заходи.
– Когда?
– Сейчас.
Утром 1-го мая с праздничной демонстрацией и без нее, дворами, тупиками да переулками, сквозь пешее и конное оцепление я пробирался в центр, к Кремлю, к Пушкинской площади, к дому, в квартиру, углом смотрящую на улицу Горького с последнего этажа. В костюме, в белой рубашке, при галстуке через сараи, через заборы и, наконец, «взятие Зимнего» – внутренний двор Елисеевского магазина. Высокомерные кованые ворота с острыми пиками позади, через клетку скрипучего лифта я приподнят и принят в кабинете Вертинского. На стенах фотографии Александра Николаевича, маленькие дочки Настя и Марианна, жена Лидия Владимировна. Фотографии жизненные и в ролях. Когда я впервые услышал голос Вертинского, небрежно преодолевающий шипящее патефонное несовершенство, впечатление попало в самое сердце. Я был потрясен. Потрясен, как можно столь скупыми тонкими средствами создать такое объемное образное пространство, и сам полюбил «вязать кружева», предпочитая изящную паутину сценического рисунка лобовому воздействию.
В детстве мама водила меня в гости к дальнему родственнику. Я запомнил интеллигентного старика в вольтеровском кресле и вид из окна на улицу Горького, по которой шли танки, выдвигающиеся к параду. Вид из окна кабинета Вертинского точно совпал с тем, что в детстве, только без танков. Совсем недавно случайно узнал: старик из детства в вольтеровском кресле жил рядом с Вертинским, в соседней квартире. Как это переплелось! Стало быть, вернулась картинка оттуда, где пел живой Александр Вертинский:
Я был против. Начнутся пеленки.
Для чего свою жизнь осложнять?
Но залезли мне в душу девчонки,
Как котята в чужую кровать…
Маша угощала меня кофе, и мы говорили не помню о чем. Маша подарила мне в тот день свою фотографию. С надписью «Милому, чУдному Жене Стеблову от Маши Bертинской». Она специально проставила ударение, чтобы получилось «чУдному», а не «чуднОму». Этот портрет я увез с собой в экспедицию. Улетел, возвращаясь на съемки. Самолет Москва – Симферополь не прибыл в порт назначения по расписанию. В воздухе загорелся двигатель. Многие пассажиры были в полуистерическом состоянии. Я был спокоен, до меня просто не доходила острота ситуации. Мы чудом сели в Одессе, еле дотянув на одной турбине. В Симферополь попали ночью другим бортом.
Когда, бывает, в отсутствие партнерши играешь перед камерой крупный план лирической сцены, фиксируя взгляд на болте осветительного штатива, тебе помогает воображение. На «До свидания, мальчики» в воображении у меня возникал портрет Маши Вертинской. Этот портрет хранился мной долго-долго, пока не исчез неизвестно куда. Бесследно исчез.
«До свидания, мальчики»Некоторое время после «Я шагаю по Москве» почти все роли молодых героев на киностудиях Советского Союза предлагали или Никите Михалкову, или мне. Сценарии провинциальных кинофабрик мы по глупости тогда даже и не читали. Только «Мосфильм», «Ленфильм» или студия Горького. Когда же Михаил Наумович Калик предложил мне попробоваться на главную роль Володи Белова в его картине «До свидания, мальчики» по одноименной повести Бориса Балтера, я растерялся. С одной стороны, нашумевшая повесть о поколении наших отцов, ушедших на фронт второй мировой войны буквально со школьной парты, «не долюбив, не докурив последней папиросы»; с другой стороны, это была любовная роль. То есть роль героя-любовника. Причем предстояло сыграть на экране сцену интимной близости несовершеннолетних молодых людей, что до того на советском экране никто не делал, а я тем более. Кинопроб было несколько, с разными партнершами. И Калику они не понравились, как я узнал позже. Он даже собирался отказаться от моей кандидатуры, но когда Борис Исакович Балтер увидел на экране сцену с матерью, которую играла со мной народная артистка СССР актриса МХАТа знаменитая Ангелина Степанова, он сразу сказал: «Вот он – мой Володя Белов». И Калик утвердил меня, потому что Балтер написал Володю с себя. Повесть была в значительной степени автобиографической. Нужно было на четыре месяца уезжать в киноэкспедицию. Из училища меня не отпустили. Пришлось брать академический отпуск, уходить с курса с неясной перспективой восстановления. Решение, давшееся мне очень трудно – боялся потерять институт. Съемки начались под новый 1964-ый год. Сначала павильонные. В конце марта поездом выехали в Евпаторию. Этот приморский город открылся нам пустыми холодными пляжами, дрожащими на ветру стеклами санаторных веранд, перегораживающих взгляды больных полиомиелитом детей. Взгляды, убегающие в горизонт апрельского моря. Еще не зацвели магнолии и глицинии. Весна еще только обещалась. Гостиница была коридорного типа. Мы жили втроем в одной комнате: Миша Кононов, Коля Досталь и я. В соседней комнате обитали наши героини: Наташа Богунова, Аня Родионова и Bика Федорова. Михаил Наумович Калик занимал «люкс». Он взял с нас расписку и честное слово о том, что я, Коля и Миша не совратим Богунову, так как она была несовершеннолетней и он самолично отвечал за нее в отсутствие педагога или родителей, полагающихся ей по договору в надзор. Михаил Наумович отнесся к своему долгу со всей серьезностью, совершенно без юмора, но, несмотря на несомненное очарование юной Наташи, он явно преувеличил нашу сексуальную агрессивность. Мы отнеслись к его страховым усилиям со скрытой иронией.
Каждый день, когда мы выезжали на съемку в черном, представительского класса «ЗИМе» (бывшая правительственная машина Анастаса Микояна), Калик садился впереди, рядом с шофером, я – сзади, на откидном кресле. Садясь, он поворачивался лицом ко мне и произносил одну и ту же фразу: «Ты бы там не выдержал. Поехали». Там – это в тюрьме, в концлагере, где Михаил Наумович провел три года по обвинению в покушении на Иосифа Сталина. Обвинение, естественно, было ложное. Застенки настоящие. Взяли его из ВГИКа. Туда же он и вернулся после реабилитации для окончания учебы. Его дипломной работой стал полнометражный фильм по роману Александра Фадеева «Разгром», который он снимал вместе с Борисом Рыцаревым в подмосковной деревне Дюдьково, где я еще мальчиком жил на даче. Вот тогда-то я впервые и снялся у Калика – в массовке. Теперь снимался в главной роли. Вечерами Михаил Наумович иногда репетировал со мной и с Наташей любовные сцены. Он красочно рассказывал ей о языческих праздниках плодородия в древние времена, о фаллическом культе, о публичных ритуальных совокуплениях. «Мне учительница не разрешит», – смущенно бормотала в ответ Наташа.
В гостинице горячая вода «не работала». Разгримировывались холодной. Над раковиной можно было смыть грим с лица, но тело густо покрытое загарного цвета морилкой в раковине не отмоешь. Так мы и жили в морилке, и спали в морилке неделями, пока снимали пляжные сцены. И «млели от жары» на пронизывающем ветре, преодолевая апрельский холод профессиональным энтузиазмом. Для «блеска» изобразительного решения время от времени наши тела окатывали морской водой из ведра. У нас зуб на зуб не попадал, а в кадре мы еще ели мороженое по нескольку дублей. Надо сказать, что Михаил Наумович больше любил монтировать, чем снимать. Поэтому в экспедицию взяли монтажный стол. Вечерами после смены он вместе с монтажницей просиживал допоздна, складывая картину. Помню, буквально через пару недель работы Калик показал первые наброски картины. Сидя в темноте на полу зимнего курортного кинотеатра, я чуть не плакал. Я был околдован ностальгической прозрачностью приоткрытого мира. Он уже жил в нем, в его памяти, в его душе, в его иронии, в его глазах, наш будущий фильм. Через хрупкую музыку Микаэла Таривердиева, через изысканную поэзию камеры Левана Патаашвили, через наши лица и голоса черновой фонограммы Михаил Наумович пригласил нас войти туда, где мы еще не были; но он уже знал, куда идти.
Ознакомительная версия.