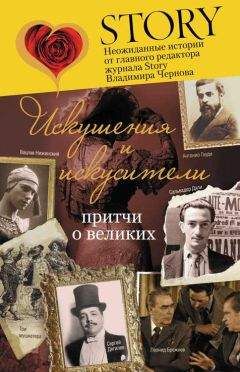Выметались полоски со сплошь перечеркнутыми словами… Он брился, менял носки, шел за маслом строго в соответствии с бумажкой и очень гордился своим умением жить планово.
«В общем-то все это хорошо, – старалась я быть объективной, – никогда ничего не забывает, всегда у него все в порядке». И все-таки, глядя по утрам, как методично он режет бумажки – много-много узких и одна широкая, чувствовала, что хочется выбросить к черту ножницы, стаканчик и эти ощерившиеся закладками книжки, выбросить и уйти самой.
<…> Я думаю о том, что я не люблю Олега. Что это ясно как дважды два. И я сужу себя за эту нелюбовь, потому что – а куда смотрела? А сын? Действительно, куда я смотрела?»
Вот и вся история. Главное – «полоски бумаги», закладки. Что это? А это – уши Каренина. Помните? «Все-таки он хороший человек, правдивый, добрый и замечательный в своей сфере, – говорила себе Анна, вернувшись к себе, как будто защищая его пред кем-то, кто обвинял его и говорил, что его нельзя любить. – Но что это уши у него так странно выдаются!»
Большинство семей распадаются из-за… ничего. Из-за ушей, из-за закладок… А на самом деле из-за того, что просто размагнитился один из полюсов, доселе создававших общее силовое поле вокруг двоих, защищающее эту обоюдность. От чего? От сомнений в правильности существования, от разрушительных внешних проникновений.
«Размагнитилась», выпала из своей прежней налаженной жизни Галина, а я, получалось, стал внешним разрушителем. Счастливым разрушителем, повторю я. Однако торжество типа «пусть неудачник плачет» было мне чуждо, если не сказать противно. Слава Богу, судьба обнесла меня участью Каренина, но я всегда в душе сострадал и сострадаю потерпевшим в такого рода крушениях. И совсем не рад обличительным черточкам в грандиозном портрете мужа Анны Аркадьевны, исполненным нашим великим правдоискателем. «Всю жизнь свою Алексей Александрович прожил и проработал в сферах служебных, имеющих дело с отражениями жизни. И каждый раз, когда он сталкивался с самою жизнью, он отстранялся от нее. Теперь он испытывал чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, спокойно прошедший над пропастью по мосту и вдруг увидавший, что этот мост разобран и что там пучина. Пучина эта была – сама жизнь, мост – та искусственная жизнь, которую прожил Алексей Александрович. Ему в первый раз пришли вопросы о возможности для его жены полюбить кого-нибудь, и он ужаснулся пред этим».
Ах как здесь чувствуется превосходство человека, доподлинно познавшего реальную действительность, перед казенной конторской крысой! Да только Лев Николаевич не хуже, чем мы, ведал, что неверность жен может подстерегать точно с такой же вероятностью и искушенного штурмана житейских морей и что богатство и разнообразие опыта вряд ли убережет его от страданий.
Великий женолюб Толстой, несмотря на свою известную моральную заданность, конечно, на стороне Анны. Но обратите внимание: свое личное нерасположение к Алексею Александровичу он выражает в основном в авторском тексте и внутренней речи Анны. В монологах, диалогах, размышлениях Каренин проявляется как умный, рассудительный, интересный – в основном хороший человек. Исключительно тонкий писатель, Толстой был не в состоянии пойти против жизни. И сколько бы он ни нагнетал непривлекательных деталей в облике героя (например, о голосе – резкий, тонкий, пронзительный, детский, насмешливый, визгливый), один монолог у постели больной, на грани жизни и смерти Анны свидетельствует о его сущностной нравственности и благородстве. Нехорошо отказывать кому-то в наличии таких качеств на том основании, что душевно травмированный человек, бывает, в растерянности совершает необдуманные, а то и неприглядные действия.
Евгений Режабек, когда его постигла такая беда, подобно Алексею Каренину, как за спасительную палочку схватился за ребенка. И заявил, что не оставит сына такой матери. Для Галины это был тяжелый удар. Как и для Анны из романа Толстого. «Это угроза, что он отнимет сына, и, вероятно, по их глупому закону это можно. Но разве я не знаю, зачем он говорит это?…он знает, что я не брошу сына, не могу бросить сына, что без сына не может быть для меня жизни даже с тем, кого я люблю…»
Понятно, для меня это было удручающе. Наша встреча с Евгением стала неизбежной. Это был третий случай, когда я его увидел (первый – на дне рождения Галины, о втором я еще расскажу). Режабек был высокомерен. Когда речь зашла о Гале, о том, что в этой ситуации она часто плачет, он, усмехнувшись, обронил:
– Пускай поплачет, ей ничего не значит.
Формально встреча закончилась ничем. Однако я на нее шел с очень тяжелым сердцем, а уходил, как ни странно, с облегчением. Я разговаривал не с монстром, который успел вырасти в моем воображении, а вполне с человеком. С человеком, в котором вопреки его внешнему поведению можно было ощутить неуверенность, в нем не было тяжеловесной каренинской убежденности в своей заведомой, от бога данной правоте во всем. А главное, я понял, что просто превосхожу в своем чувстве к Сашке (Хоке по-нашему) отца, которое, оказывается, росло параллельно с любовью к матери мальчишки. И коль скоро будет борьба за него, я с таким «боезапасом»… обречен на победу.
Между тем в глазах других лиц, заинтересованных в судьбе ребенка, – Галиных мамы, отчима, брата, деди, буси, – как только им стало известно о намерении отнять мальчишку у Галуси, Жора из абсолютно пристойного молодого человека мгновенно превратился в чудище, достойное только судьбы изгоя. Маленький Сашка жил у них, и когда мы в очередной раз на два дня мотанулись из Ростова в Донбасс, то обнаружили, что он называет Евгения Ярославовича не иначе как – «тот паразит».
Гале, умученной разводом, это, кажется, даже понравилось. Но я, отловив ребенка, раскачивавшегося в саду на нижней ветке яблони, сказал, чтобы больше он так не говорил. И он не говорил – при мне. Но лукавый бесенок в мое отсутствие предавался вольной языковой стихии полу-России-полу-Украины, включая и полюбившееся то ли имя, то ли ругательство – «тот паразит». Я делал вид, что не замечаю, поскольку он все же как-то дисциплинировал себя по моему наказу. И рано или поздно эта грубость должна была из него выйти: как говорится, от внешнего к внутреннему. (Кажется, это – по Мейерхольду?) А когда мы уже втроем вернулись в Ростов, эта брань была категорически запрещена в доме.
Большую и, как оказалось, типичную оплошность сделал Евгений, попытавшись представить мои письма Галине как доказательства аморальности. И в девятнадцатом веке, при Каренине, такие действия выглядели и не очень пристойно, и неубедительно. Алексей Александрович тоже хотел засвидетельствовать «уличение невольное, подтвержденное письмами, которые я имею.