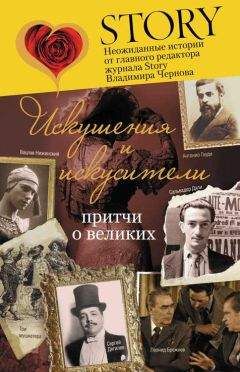– И как ты будешь объяснять это Мунблиту? – полюбопытствовал я.
– Тогда уж надо изменять и вторую фразу, – сказала Галя. И добавила: – И вообще роман получится о другом.
Позднее я над этим задумался и вот что понял. Во фразе «К майским праздникам в город вернулся Федя Марчик» все притушевано, и майские праздники, которые просто обозначение сезона, и, главное, Федя Марчик, который далеко не центральный герой; а все важное начинается где-то дальше. Фраза же «Федя Марчик… и т. д.» дает повод предположить, что именно о нем пойдет речь, к тому же намекает, что-то произойдет в майские праздники… Но главное – сводится на нет вольное разговорное перетекание слов, о котором сказано выше и которое создает дивную легкость восприятия щербаковской прозы.
Между тем история все той же фразы на этом не закончилась. Роман, пролежавший «в столе» больше десяти лет, потом много раз переиздавался, причем под разными названиями, и автор, отдавая в издательство когда-то тщательно вычитанный и апробированный в книге текст, был уверен: все будет как надо. Но… недоучел, что в любой издательской конторе может оказаться некто Василий Васильевич Зобов из рассказа Тэффи «Трубка», который одно время работал корректором.
«Корректор он был скверный. Не потому, что пропускал ошибки, а потому, что исправлял авторов.
Напишет автор в рассказе из деревенской жизни:
«– Чаво те надоть? – спросил Вавила».
А Зобов поправит:
«– Чего тебе надо? – спросил Вавила».
Напишет автор:
«– Как вы смеете! – вспыхнула Елена».
А Зобов поправит:
«– Как вы смеете! – вспыхнув, сказала Елена».
– Зачем вы вставляете слова? – злится автор. – Кто вас просит?
– А как же? – с достоинством отвечает Зобов. – Вы пишете, что Елена вспыхнула, а кто сказал фразу «Как вы смеете» – остается неизвестным. Дополнить и выправить фразу лежит на обязанности корректора».
Так вот, в одном из изданий романа этот Зобов сделал с первой фразой в точности то, что предлагал Мунблит. Однако Мунблит, сам первоклассный писатель, смирился с несогласием автора, а Зобов, высмотрев в тексте «стилистический изъян», не счел нужным известить автора о внесенном исправлении. (Хорошо, что Галина так и не узнала про это. Она без сожаления, например, расставалась с издательством и по менее важным, на мой взгляд, поводам, например, из-за того, что ей своевременно не показали обложку будущей книги.)
Тогда же, в 59-м, я иногда при письме, вспоминая Галины тексты, нарочно вставлял фразы «как у Гали», чисто разговорного типа: какое-то дополнение вначале, а подлежащее или сказуемое – в конце. Пока писал, казалось, что это разнообразит материал. А когда перечитывал, выбрасывал эти экспериментальные экзерсисы – в моем тексте они были чужеродны. Все же не зря сказал французский мудрец: стиль – это человек.
Вот, кажется, я и пришел к разгадке собственного предвидения-предсказания главного в судьбе Галины. В ней, авторе, ощутимо пробивался явно выраженный стиль – в первую очередь я его заметил в подходе к нашему общему профессиональному материалу, языку. А далее – это уже мое более позднее наблюдение – и в отношении к жизни, вообще к «жанру» бытия – празднично-игручему, но всегда готовому обернуться в драматичные и даже трагичные тона. Журналисту такое обычно бывает несвойственно. А вот писателю – в самый раз.
Вообще писательство – может быть, самый многокомпонентный род творческой деятельности, даже с чисто формальной стороны. Без сомнения, очень важно, если у тебя, как сказала Ариадна Громова, «есть слова». Но в той же мере необходимо умение очень точно расставить эти слова, быть их командиром. Однако я не любитель прозы, где слишком видно стратегическое и тактическое мастерство повелителя слов, которое отвлекает внимание на то, как красиво сказано, или останавливает его на диковинном раскопанном или изобретенном слове. Я, конечно, читаю и такие книжки – но преодолевая раздражение от очевидного усердия «мастера слова». Может быть, это признак отсталости, но мне всегда милее истории, рассказанные как бы невзначай, не нарочито, свободно льющимся, незаметным слогом.
У Галины, как и у всех моих любимых сочинителей, был именно такого рода от природы поставленный писательский голос.
Завершая историю моего челябинского жития, повторю: мы были счастливы. В этом был парадокс, поскольку ни меня, ни Галю не устраивала ситуация тайной любви. Я-то был свободен как птичка, а вот Галина не могла раскрыться по причине, о которой вы узнаете буквально в начале следующей главки и которую я считал порождением ее несовершенного мозга, но… уважал. Поскольку мозг принадлежал обожаемой мной голове.
Короче, мы вели счастливую, но вовсе не сладкую, тернистую, а то и неуклюжую жизнь.
На пятый этаж я не поднимался. По разным причинам. В том числе и потому, что это была коммуналка. Вот как описывала ее Галина в одной статье:
«…Моему сыну два месяца, и у меня кончается декретный отпуск. Тогда, в конце пятидесятых, он, этот отпуск, был двухмесячный. Почти истерически я ищу няню. Нахожу ее прямо на вокзале, в толпе бегущих из деревни людей…Я отлавливаю в толпе девчонку. Дома перво-наперво вычесываю из нее вшей. Потом облачаю ее в собственную городскую одежду. Ее удивляет комбинация – такая красавица – и под всем? Не видно же!…Девушка кладет сахар в чай с кончика ложки, и я объясняю, что нужно класть хоть две, хоть три с верхом до нужной сладости.
Девушка остается и живет, объясняя мне, хозяйке, что живет она как в раю. Перед самым летом, проходит где-то полгода, я застаю барышню за интересным занятием. Она набивает в свой мешок не только те вещи, которые были ей отданы, но и те, что считались моими.
– Вы думаете, я дура? Эсплутаторов давно прогнали, – объясняет она мне, – а вы остались. Теперь что ваше – то и мое.
Надо сказать, что все происходит в коммуналке на глазах соседей. И я вижу, что она, коммуналка, на ее стороне. И я теряюсь, я чувствую себя виноватой перед этой юной дурочкой, вымытой и без вшей. Наискосочек стоит соседка, учительница истории. Читаю некоторое смущение на ее лице. Господи, да это же она, я видела, как она шептала что-то моей няне, а когда я вошла, заговорила громким голосом политинформатора.
Итак, коммуналка против меня. В них во всех взыграла классовая солидарность. Ведь с точки зрения чечевицы я «эсплутатор» и «не наш человек». Вот ведь не отдаю дитя в ясли, фря такая. А чем их ясельные хуже моего сына?.. А девчонке место на заводе, разъелась тут на сладком и жареном. Когда няня уходит, мне начнут сочувствовать, и эта их фальшь будет больнее, чем страх потерять работу, чем жалость об утраченном платьице из набивного шифона и туфлях-лодочках. Девчонка их унесла, как и хотела, а я стою и реву обо всем сразу. Коммуналке приятны мои слезы. Но одновременно – что ли мы не русские? – они предлагают посидеть в очередь с дитятей, пока то да се… И я уже кидаюсь им в ноги с благодарностью, я уже не помню провокатора-историчку».