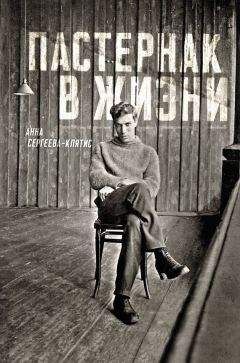Неспособность Иды отличить, выделить из бесчисленной армии поклонников его одного, если и не любимого, то духовно близкого, а кроме того, совершенно особенного, отличного от «безукоризненного ничтожества», оказалась неожиданной и неприятной чертой. Добавим к этому форму, в которой Ида сообщила ему свою историю — слова «так же точно» Пастернак выделил в своем письме и снабдил восклицательным знаком. Значит, отдавала себе отчет в том, что различия не делала. Кажется, что с этого разговора любовь к Иде пошла на убыль. А через три года Пастернак в утешение Штиху, в этот момент пережившему несчастную любовь, писал о ней как о детском трагическом заблуждении: «Есть особый вид детского, поэзией слов, обращений и т. д. расчесанного, растревоженного увлеченья; это не любовь, разумеется. Убедиться в неладной полуизмышленности таких отношений случается всегда в обстановке таких слов и обстоятельств, что создается какой-то туман несчастной любви. Ложное положение затягивается, оно еще мутит, душит, печалит, кажется выхода нет из этого унылого тупика. Между тем это-то и есть впервые привидевшийся выход в жизнь. “Несчастная любовь” разлагается: по счастью, это не любовь. Я бы не осмелился писать тебе всего этого, если бы не писал отчасти или даже преимущественно о себе: о той жалкой луже, в которой я барахтался до самого Марбурга»{117}. Примерно в то же время, осмысливая прожитую жизнь, объясняя отцу готовящийся новый поворот в жизни и поэзии, Борис писал о своем марбургском эпизоде еще определеннее: «Мне хочется рассказать тебе, как однажды в Марбурге со всею целостностью и властной простотой первого чувства пробудилось оно во мне, как сказалось оно до того подкупаюше ясно, что вся природа этому сочувствовала и на это благословляла — здесь не было пошлых слов и признаний, и это было безотчетно, скоропостижно и лаконично, как здоровье и болезнь, как рождение и смерть. Мне хочется рассказать тебе и про то, как проворонил эту минуту (как известно, она в жизни уже больше не повторяется) глупый и незрелый инстинкт той, которая могла стать обладательницей не только личного счастья, но счастья всей живой природы в этот и в следующие часы; месяцы и, может быть, — годы: потому что в этом ведь только и заключается таинственная прелесть естественности, подавленной ложными человеческими привычками, развратом опытности и развратом морали: в том, что если эта естественность впервые, не опираясь на дозволенность, опрокидывает все и делает признание одним лишь немым своим появлением, то она уступает нескольким сотням десятин сплошного садового и лесного лета, всей гуще окружающей жизни, способной иметь краску, тепло и вкус, звучность и запах. Принять такой бросок от этой июньской баллисты значит выйти замуж за леса, за города, за дни и ночи. И когда она, отстраняя меня, привела на память “подобные” же случаи — предложения (!) плачущих Бродских, -манов, -бергов, -фельдов и прочих автомобилей, — она навеки оскорбила не меня только, но и себя и всю свою жизнь и все свое прошлое, эта отпетая слепая из Чудовского переулка»{118}. «Отпетой слепой» Пастернак бросает в этом же письме еще одно обвинение, которое тяжелым бременем ложится на светлый и романтический миф о первой любви Пастернака — «Вот, — говорит он отцу, — кем была искалечена навсегда моя способность любить»{119}.
Судьба Иды Высоцкой сложилась не так благополучно, как могла бы, учитывая ее происхождение и финансовые возможности. Но, как известно, ни богатство, ни власть не могут служить надежной страховкой от жизненных катастроф, а счастье другого рода, о котором так подробно и точно пишет в своем письме отцу Пастернак, она уже упустила. В 1914 году Ида вышла замуж за человека из своего круга — банкира Фельдцера, после революции разумно предпочла эмиграцию, однако былого достатка уже не было, как не было и спокойствия, поскольку европейские события 1930-х годов не могли обойти стороной обосновавшуюся в Европе еврейскую семью. Ида умерла в 1976 (по другим сведениям — в 1979) году, успев устно передать свою версию произошедшего в Марбурге летом 1912 года. По этой версии, Пастернак не делал ей предложения и никакого отказа не получал; и то и другое стало плодом его поэтического воображения, болезненно взвинченного ситуацией выбора нового пути и отказа от прежних ценностей. Читатель волен сам остановиться на той версии, которая кажется ему более достоверной. Со своей стороны скажем лишь, что Иду трудно заподозрить в намеренной лжи. Скорее всего, несмотря на опыт многолетнего общения с Пастернаком, она не сумела разгадать в его часто сбивчивой, путаной и образной речи предложение руки и сердца, которое, конечно, было произнесено, — у нас нет никаких причин не доверять личным письмам Пастернака, процитированным выше, в которых марбургский эпизод занимает такое важное место.
Как бы в точности ни сложилась история отношений между Идой Высоцкой и Борисом Пастернаком, ее бесценным результатом стал первый сборник стихов «Близнец в тучах», написанный фактически в течение года, прошедшего с марбургского лета. И хотя сам Пастернак впоследствии порицал себя за выпуск «незрелой книги» и, уже достигнув поэтической зрелости, переписывал свои ранние тексты, стараясь приблизить их к поэтике «неслыханной простоты» и отказаться от утяжеляющих метафор и смысловых темнот, всё же книга эта не просто этап творческого взросления поэта. В ней о любви, страдании, жизни и смерти сказано практически то же и так же, как впоследствии Пастернак не раз будет говорить на эти вечные темы. Первое стихотворение сборника заканчивается выразительной строфой (с зашифрованным в ней названием Чудовского переулка), прямо объясняющей любовью созидательный импульс Бога-Демиурга, что бросает косвенный отсвет и на личное поэтическое творчество, и на его биографические предпосылки:
Ты к чуду чуткость приготовь
И к тайне первых дней:
Курится рубежом любовь
Между землей и ней.
Второй эпизод относится к 1914–1915 годам, когда в Москве, благодаря Н.Н. Асееву, с которым он был в это время дружен, Пастернак познакомился с семейством Синяковых. О Синяковых выразительно вспоминала Л.Ю. Брик: «Синяковых пять сестер. Каждая из них по-своему красива. Жили они раньше в Харькове, отец у них был черносотенец, а мать человек передовой и безбожница. Дочери бродили по лесу в хитонах, с распущенными волосами и своей независимостью и эксцентричностью смущали всю округу. В их доме родился футуризм. Во всех них поочередно был влюблен Хлебников, в Надю — Пастернак, в Марию — Бурлюк, на Оксане женился Асеев»{120}.