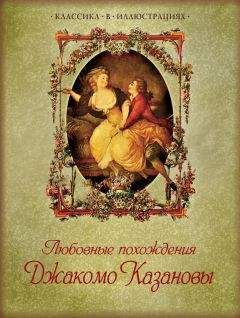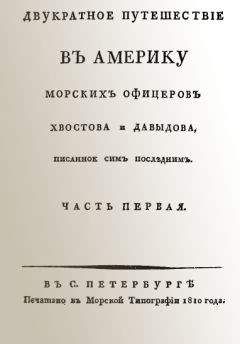Мейербер очень заботился о внешней постановке своих опер, исходя из того, что богатству звуков и содержания для гармоничного и более сильного впечатления должна соответствовать обстановка. Его состояние позволяло ему обставлять свои произведения с небывалой пышностью, и, быть может, он впал здесь в крайность, тем более что либретто Скриба были основаны главным образом на внешних эффектах. Стремление к блеску, к воздействию на толпу, к непосредственному успеху было причиной главных нападок на Мейербера, в которых его враги доходили даже до отрицания его громадного таланта. Но время, самый строгий и беспристрастный критик, показало, что успех его опер был основан не на одном внешнем блеске: они до сих пор привлекают многочисленную публику и вызывают ее горячий восторг при всякой обстановке, простой или блестящей, которая в наше время перестала быть диковиной. Музыка Мейербера страдает некоторыми недостатками: в ней нет единства стиля, но смешение всех трех стилей, которые так внедрились в плоть и кровь композитора, что ему трудно было отрешиться от одного в пользу другого; в его операх, которые он писал по несколько лет, встречаются часто работа рассудка, пустой блеск и напыщенный пафос рядом с потрясающим драматизмом, вдохновенными мелодиями и силой гениального творчества. Ганслик, один из лучших представителей современной критики в Германии, где Мейербер столько вынес при жизни, отдает теперь должное его громадному таланту, и в признании его заслуг именно немецкой критикой можно видеть доказательство действительного значения этого композитора. «Каждое хорошее представление „Роберта-Дьявола“ или „Гугенотов“ на любой сцене любого государства дает блестящее доказательство власти мейерберовских опер над публикой. Уже давно их мелодии утратили прелесть новизны, сценические эффекты перестали удивлять и поражать и столь злобно превозносимое влияние самого композитора сошло вместе с ним в могилу, а его оперы все еще производят действие, какое может истекать лишь из необыкновенной музыкальной изобретательности и равного ей по величине художественного понимания. Внутреннее развитие Мейербера, сила и противоречия его удивительного дарования, так же как факт неоспоримого владычества его поруганной музыки, должны будут подвергнуться более глубокому и беспристрастному исследованию. Как мало говорит безусловная похвала, доказывается французскими критиками, которые своими безмерными фимиамами заслонили, как дымом, реальную личность композитора. Но этот энтузиазм, с которым чужая нация выдвигает преимущества немецкого художника, кажется нам симпатичнее, чем злостный, презрительный тон, который большая часть немецкой публики позволяет себе по отношению к Мейерберу. Рихард Вагнер, чьи „Риенци“, „Тангейзер“, „Голландец“ нам кажутся немыслимыми без предшествия Мейербера, судит о Мейербере не так, как судят о художнике, но как о преступнике. Вероятно, есть доля правды в утверждении Берне, что неблагодарность к собственным согражданам лежит в природе немцев, – иначе к Мейерберу, единственному немецкому композитору, который (исключая Вагнера) в течение 40 лет пользуется успехом и который со времен Вебера является бесспорно величайшим драматическим композитором, немецкая критика не относилась бы как к провинившемуся ученику». Еще беспристрастнее характеризует Мейербера Рубинштейн, этот великий представитель нейтральной нации. «Мейербер сделался типом французской большой оперы. Этот сочинитель был во Франции чересчур превознесен, а серьезными критиками Германии слишком принижен. Правда, он не без некоторых грехов на своей артистической совести, каковы: болезненное самолюбие, страсть к непосредственному успеху, недостаточная самокритика, подчинение плохому вкусу немузыкальной публики, накрашенная музыкальная характеристика; но зато у него также и большие качества: сильный театральный темперамент, замечательная отделка оркестра, артистическая отделка массы, сильный драматизм, виртуозная техника и т. д. Многие говорящие против него музыканты были бы рады, если бы могли ему подражать».
Быть может, причина недостатков музыки Мейербера лежала именно в ожесточенном гонении на него, что развило в нем чрезвычайную чувствительность как к похвале, так и к порицанию, и вместе с тем заставило его стремиться к непосредственному успеху. Всякий дурной отзыв его глубоко огорчал, и он старался всеми силами устранить возможность какого-либо порицания своих произведений. Накануне первого представления он давал роскошный пир для критиков и фельетонистов, называя это «подогреванием рекламы».
До представления он отличался большой робостью, боязливостью, неуверенностью, обращался ко всем за мнениями, даже не брезгал советами машиниста. Всякая мелочь казалась ему опасной для успеха его опер. Когда Мейербер разучивал в Париже своего «Роберта», рассказывал Верон, то он нашел кое-что в обстановке слишком простым. «Милейший директор, – сказал он Верону, – вы хотите совсем погубить мою музыку и не хотите ее поддержать?» Верон принял его слова к сведению и обставил сцену в монастыре с небывалой роскошью. «Но, милый Верон, – обратился к нему опять композитор, – вы хотите совсем погубить мою музыку? Публика будет только смотреть и не слушать».
Но после представления его неуверенность исчезает. Мейербер меняет свое поведение, не спрашивает больше советов, но, наоборот, требует беспрекословного исполнения всего, что он считает необходимым изменить или исправить. Иногда его непреклонность доходит даже до жестокости. Так, однажды, в то время как «Звезда Севера» почти не сходила со сцены и делала огромные сборы, одна из лучших участниц, г-жа Декруа, внезапно лишилась матери, и директор комической оперы, г-н Перэн, дал ей восьмидневный отпуск из уважения к ее горю, назначив г-жу Белио на ее место. Мейербер тотчас приехал справиться о причине перемены состава и, узнав, в чем дело, сказал:
– Вы хорошо сделали, отпустив г-жу Декруа, но мне невозможно принять ее заместительницу. Один параграф нашего контракта запрещает вам менять исполнителей до пятидесятого представления.
– Да, но…
– Просто-напросто снимем пьесу до поры до времени.
– Как так? – воскликнул Перэн. – Но я не могу менять репертуара, мне нужны сборы «Звезды».
– В таком случае, – сказал Мейербер, – заставьте петь Декруа.
Мейербер дорожил похвалою как настоящих ценителей искусства, так и дилетантов; непосредственные искренние восторги его поклонников из публики доставляли ему невыразимое удовольствие. Среди его знакомых были две молоденькие девушки, почти еще дети, к мнению которых он относился с каким-то трогательным любопытством. Если случалось одной из них попросить у него ложу на «Гугенотов» или «Пророка», то он на следующий же день отправлялся узнавать о впечатлении своей юной поклонницы, и больше чем все восхваления критики его утешали и пленяли наивные восторги этой чистой души, еще трепещущей от впечатления его музыки. Мейербер прибегал иногда к тонкой хитрости, чтобы склонить на свою сторону враждебных людей. Однажды, рассказывает Мирекур, в кабинет Миреса, владельца газеты «Pays», входит один господин, который спрашивает его: