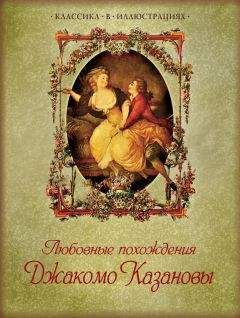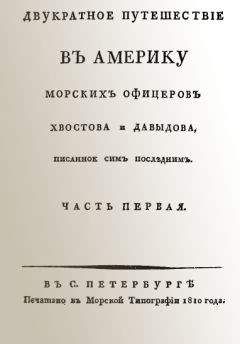До представления он отличался большой робостью, боязливостью, неуверенностью, обращался ко всем за мнениями, даже не брезгал советами машиниста. Всякая мелочь казалась ему опасной для успеха его опер. Когда Мейербер разучивал в Париже своего «Роберта», рассказывал Верон, то он нашел кое-что в обстановке слишком простым. «Милейший директор, – сказал он Верону, – вы хотите совсем погубить мою музыку и не хотите ее поддержать?» Верон принял его слова к сведению и обставил сцену в монастыре с небывалой роскошью. «Но, милый Верон, – обратился к нему опять композитор, – вы хотите совсем погубить мою музыку? Публика будет только смотреть и не слушать».
Но после представления его неуверенность исчезает. Мейербер меняет свое поведение, не спрашивает больше советов, но, наоборот, требует беспрекословного исполнения всего, что он считает необходимым изменить или исправить. Иногда его непреклонность доходит даже до жестокости. Так, однажды, в то время как «Звезда Севера» почти не сходила со сцены и делала огромные сборы, одна из лучших участниц, г-жа Декруа, внезапно лишилась матери, и директор комической оперы, г-н Перэн, дал ей восьмидневный отпуск из уважения к ее горю, назначив г-жу Белио на ее место. Мейербер тотчас приехал справиться о причине перемены состава и, узнав, в чем дело, сказал:
– Вы хорошо сделали, отпустив г-жу Декруа, но мне невозможно принять ее заместительницу. Один параграф нашего контракта запрещает вам менять исполнителей до пятидесятого представления.
– Да, но…
– Просто-напросто снимем пьесу до поры до времени.
– Как так? – воскликнул Перэн. – Но я не могу менять репертуара, мне нужны сборы «Звезды».
– В таком случае, – сказал Мейербер, – заставьте петь Декруа.
Мейербер дорожил похвалою как настоящих ценителей искусства, так и дилетантов; непосредственные искренние восторги его поклонников из публики доставляли ему невыразимое удовольствие. Среди его знакомых были две молоденькие девушки, почти еще дети, к мнению которых он относился с каким-то трогательным любопытством. Если случалось одной из них попросить у него ложу на «Гугенотов» или «Пророка», то он на следующий же день отправлялся узнавать о впечатлении своей юной поклонницы, и больше чем все восхваления критики его утешали и пленяли наивные восторги этой чистой души, еще трепещущей от впечатления его музыки. Мейербер прибегал иногда к тонкой хитрости, чтобы склонить на свою сторону враждебных людей. Однажды, рассказывает Мирекур, в кабинет Миреса, владельца газеты «Pays», входит один господин, который спрашивает его:
– Вы знакомы с автором «Гугенотов»?
– Нет, я никогда его не видал.
– Как странно! Вчера он отзывался о вас с бесконечной похвалой. На вашем месте я бы ему сделал визит.
– Я бегу к нему сию же минуту! – восклицает Мирес, весьма падкий на дружбу со знаменитостями.
Десять минут спустя он вылезает из экипажа на улице Ришпанз, у гостиницы «Дунай», где композитор останавливался, посещая Париж. Нечего говорить, что визит его ожидался. Мирес, очарованный приемом, беседует целый час с великим артистом, который пленяет его своей любезностью, и вдруг Мейербер говорит ему совершенно спокойным тоном:
– Кстати, на меня нападают в «Pays»; известно ли вам это?
– В «Pays»? В моем журнале! Как они смеют!..
– Я был уверен, что вы не имеете понятия об этих статьях, – прерывает Мейербер.
– Нет, клянусь вам… Ах, черт возьми, я взмылю голову этим редакторам.
В тот же вечер он говорит критикам:
– Я запрещаю вам впредь бранить моего друга Мейербера!
– Но…
– Без возражений! Вы будете иметь к его гению безграничное уважение.
– Но, однако…
– Соглашайтесь или уходите. Я передам ваш отдел другим, если вы не согласны мне повиноваться.
Все свои новые оперы Мейербер ставил прежде всего в Париже, потому что, как он пишет, там великолепный состав певцов, первоклассный оркестр. «Тот факт, что опера, которая нравится в Париже, совершает кругосветное путешествие, может склонить композитора к предпочтению этого города; что же касается критиков, то в то время как французские ценители отмечают все, что достойно похвалы в произведении, обо всем прекрасном и удачном отзываются одобрительно, прощая маленькие погрешности и неровности или же порицая их со снисхождением, в это время немецкие критики занимаются лишь тем, что отыскивают ошибки и слабые стороны, ругают автора, как будто перед ними стоит школьник». Сам Мейербер относился всегда с большой снисходительностью к своим собратьям по искусству, никогда не отзывался дурно об их произведениях и не пропускал случая оказать им поддержку или покровительство. Особенно теплое участие он принимал всегда в своем противнике, Вагнере. Еще в 1839 году Мейербер давал ему рекомендательные письма в Париж и через несколько лет писал о нем одному влиятельному лицу:
«Г-н Рихард Вагнер из Лейпцига – молодой композитор, отличающийся не только прекрасным музыкальным образованием, но богатой фантазией, разносторонним развитием, – по своему положению заслуживает во всех отношениях сочувствия своего отечества. Окажите молодому артисту свое покровительство и дайте ему возможность выказать свое прекрасное дарование».
Мейербер поставил оперу Вагнера «Риенци» в Дрездене как торжественное представление, по его настоянию «Риенци» и «Голландец» были поставлены в Берлине. Рихард Вагнер «отблагодарил» своего покровителя злобными нападками на него в своих статьях «Die Kunst und ihre Revolution»[7] и «Das Judenthum in der Musik»[8], в которых он, не называя имени, поносит знаменитого композитора самым недостойным образом; но он относился к Мейерберу иначе в те дни, когда нуждался в его покровительстве. «Глубокоуважаемый маэстро», – обращается он к нему в письме, в котором выражает надежду «уважаемого маэстро приветствовать в скором времени лично», и подписывается: «Ваш вечно преданный».
В бытность свою в должности генерального директора музыки в Берлине Мейербер позаботился об увеличении содержания музыкантов, которые стали получать вдвое больше. В память о своем друге Вебере он дал блестящее представление оперы «Эврианта», сбор с которой, составивший две тысячи талеров, пошел на устройство памятника безвременно погибшему композитору. Мейербер был страстный любитель классической музыки и горячий поклонник гения Бетховена, Моцарта, Баха.
«Я бы всегда проводил зиму в теплом климате, – пишет он, – если бы там была возможность слушать хоть несколько концертов классической музыки, которую мы здесь слушаем ежедневно. Поверьте, что если Вы ничего не слышите, кроме итальянской и французской оперной музыки, когда до Вас доносятся со всех сторон лишь мелодии Доницетти и Верди, то начинаешь жаждать положительной, классической немецкой музыки, как путник в пустыне – глотка свежей воды. Квартеты и симфонии наших классических авторов, так же как некоторые произведения наших молодых композиторов, держат меня в Берлине дольше, чем это полезно моему здоровью».