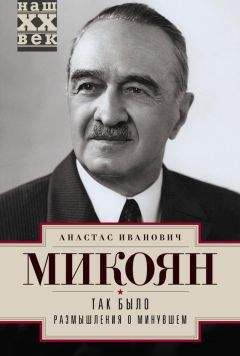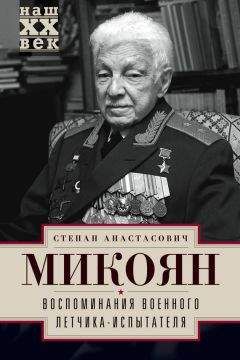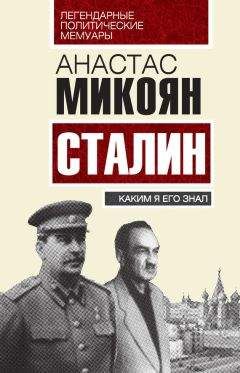Прибыв в Новочеркасск и выяснив обстановку, я понял, что претензии рабочих были вполне справедливы и недовольство оправданно. Как раз вышло постановление о повышении цен на мясо и масло, а дурак-директор одновременно повысил нормы, на недовольство рабочих реагировал по-хамски, не желая с ними даже разговаривать. Действовал, как будто провокатор какой-то, оттого что не хватало ума и уважения к рабочим. В результате началась забастовка, которая приобрела политический характер. Город оказался в руках бастующих. Козлов стоял за проведение неоправданно жесткой линии.
Пока я ходил говорить с забастовщиками и выступал по радио, он названивал в Москву и сеял панику, требуя разрешения на применение оружия, и через Хрущева получил санкцию на это «в случае крайней необходимости». «Крайность» определял, конечно, Козлов.
Несколько человек было убито. Козлов распорядился даже подать два эшелона для массовой ссылки людей в Сибирь. Позорный факт! Прямо в духе Ежова — Берия. Я это решительно отменил, и он не посмел возражать.
Почему Хрущев разрешил применить оружие? Он был крайне напуган тем, что, как сообщил КГБ, забастовщики послали своих людей в соседние промышленные центры. Да еще Козлов сгущал краски. Поэтому в соседние города были направлены другие члены руководства, Шелепин — в Донбасс, кажется, остальных не помню. Такая паника и такое преступление для Хрущева не типичны, виновен Козлов, который его так дезинформировал, что добился хотя и условного, но разрешения.
Вот такой человек был Фрол Козлов. Явно стремился к власти и в какой-то момент столкнулся на этом пути с Игнатовым.
На XXII съезде партии Хрущев по совету Козлова решил не включать группу Игнатова в Президиум ЦК. Тот рассказал Хрущеву, что есть такая группа: Игнатов, Аристов, Фурцева. Я поддержал это предложение, хотя мне было жаль Фурцеву. Но невозможно было ее отделить: она была целиком с ними. Да и Аристов был неподходящий человек с большими претензиями. Правильно Брежнев позже убрал его из Польши и не включил в Президиум ЦК, на что тот, как я думаю, рассчитывал: не умел работать послом, проморгал все, что там происходило. Между прочим, он почему-то скрывал, что не русский, а татарин.
Когда Игнатов перестал для Козлова представлять опасность, он стал бороться против меня: я оставался последним, кто мог еще влиять на Хрущева. А цель Козлова была та же — свести Хрущева на чисто показную роль, все решать без него, за его спиной.
После XXII съезда Козлов видел главного противника во мне. Как я сказал, к Хрущеву он нашел подход подхалимством. Хрущев это любил. Козлов был ограниченный, но хитрый. Сговаривался с Хрущевым вдвоем. Иногда я ставлю какой-либо вопрос, а Хрущев говорит: «Мы с Козловым это уже обсудили и решили так». Это Козлов на этой стадии (после Суслова в 1950-х гг.) помешал опубликовать материалы, доказывающие неправильность процессов 1936–1938 гг., реабилитацию Бухарина и других. Документ был подготовлен и уже подписан Шверником, Шелепиным, Руденко. А он хитро подошел к Хрущеву. Вспомнил, как в 1956 г. французские коммунисты были в трудном положении. Им говорили: «Вы молились на Сталина. Теперь посмотрите, кто он был». Козлов внушал: «Отложим до лучших времен». — «До каких лучших? Нельзя дольше молчать», — возражал я. Когда я убеждал Хрущева наедине перед этим, он отвечал: «Вот Козлов считает, что надо подождать. И другие секретари считают, что большое недовольство будет среди коммунистов в Европе». Так и не согласился. А я понял, что Козлов уже договорился с Сусловым. Пономарев (заведующий Международным отделом ЦК) вряд ли стал бы так отвечать Хрущеву, но противоречить Суслову он бы тоже не решился.
Конечно, жаль, что тот доклад XX съезду сразу же, без нашего ведома попал к американцам. И они его «раскрутили». Мы бы провели разъяснение так, как сочли наиболее правильным и наименее болезненным. Я до сих пор, когда вспоминаю, ругаю себя, что проголосовал за рассылку текста в правящие партии социалистических стран. Думаю — зачем так срочно? Им ведь здесь дали прочитать, рассказали. И из Польши документ попал на Запад. Голосование было опросом. Это вообще-то удобно. Пишешь «за» или «прошу обсудить». Но это и плохо потому, что иногда сомневаешься, колеблешься. При устном голосовании можешь сказать: «А стоит ли?» А тут, если просишь обсудить, надо иметь готовые аргументы, обоснование, альтернативное предложение. Так у меня и получилось. Вижу — все проголосовали «за», даже такие, как Молотов, Каганович. Не долго думая, проголосовал «за» и я.
Я считал более важным последовательно проводить десталинизацию во многих направлениях у себя дома, в нашей стране. За границей постепенно бы сами разобрались. Вот как китайцы делают с образом Мао. А у нас как раз этот процесс натыкался на препятствия, да и сейчас еще дело полностью не доделано. Дело же не только в образе самого Сталина, а в сталинских порядках в партии, в обществе. Партийная жизнь даже еще не вернулась к нравам и нормам, к демократии времен Ленина. И неизвестно, возможно ли это теперь вообще достичь. Даже Брежнев, человек примитивный и не сильный, сумел стать почти что диктатором, на него молятся, как на Сталина когда-то. А это ведь определяет обстановку во всем обществе.
А тогда, в 1950-х и даже 1960-х гг. встречалось и открытое сопротивление в расчете на откат назад. Пример — ход реабилитации в 1950-х гг., еще до XX съезда.
Хрущев ввел очень правильный порядок, когда в его отсутствие вели заседания и все текущие дела Президиума ЦК поочередно другие члены Президиума, а не просто какой-либо из секретарей ЦК. Два года это делал я, потом настал черед Кагановича. И вот до меня доходит информация, что реабилитация замедлилась. Я вызываю Руденко и спрашиваю: «Что происходит? У вас что политика изменилась? Но политика ЦК не менялась». Он очень взволнованно говорит, очень откровенно (он был хороший человек, порядочный, но не очень-то самостоятельный и не из самого храброго десятка): «А вы знаете, Анастас Иванович, я был у Кагановича по делам реабилитации, а он мне сказал: «Сейчас ищут виновных в арестах. Но вы не думаете, что наступит время, когда начнут искать виновных в освобождении?» Вот я и подумал, что намечаются какие-то изменения». Я ему твердо заявил, что с полной ответственностью могу заверить: никто не менял политику ЦК, что это личные мысли Кагановича и надо продолжать работу по ускоренной реабилитации.
Возвращаюсь к Хрущеву. Он не любил статистику. Ему всегда делали выборку: низшие показатели, высшие показатели и т. д. Я же очень люблю статистику и до сих пор читаю и сообщения ЦСУ, и комментарии к ним, статистику в печати. Когда речь зашла у нас о новой Программе партии и туда предложили включить цифры, я протестовал. Цифры — не для программ. В программах, принятых раньше, только одна цифра — 8-часовой рабочий день (до него был 9-часовой). И не нужно. А тут записали 240 млн тонн стали. Зачем? Кому известно, что понадобится столько? Вот у США огромные мощности недогружены: омертвленный капитал. Делали 100 млн т, сейчас делают 130. Больше им не надо. Зачем нам вкладывать гигантские средства в то, что, может, и не понадобится? Надо действовать по обстоятельствам.