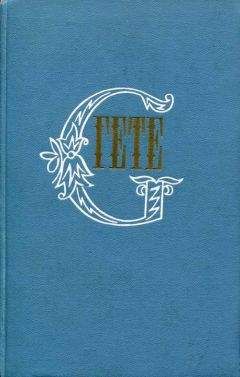Но так как одиночество и сидение взаперти всегда мне благоприятствовали, — тут уж волей-неволей приходится использовать время, — я взялся за своего «Эгмонта» и почти что его закончил. Я прочитал «Эгмонта» отцу, который проникся особой любовью к этой вещи и желал только одного — увидеть ее законченной и напечатанной, полагая, что она много прибавит к доброй славе его сына. Успокоиться и вновь испытать удовлетворение было ему сейчас необходимо, так как его глоссы относительно где-то застрявшего экипажа были исполнены мрачнейшей подозрительности. Он снова твердил свое: вся эта история вымышлена, никакого нового ландо не существует, а своевременно не прибывший кавалер — просто плод чьего-то воображения. Правда, понять это он давал мне лишь косвенно, но зато тем старательнее мучил себя и мою мать, изображая происходящее как веселую придворную забаву, которая была придумана в отместку за мои дерзкие выходки, дабы меня уязвить и пристыдить, — вот, мол, ждал почестей, а теперь сиди в дураках.
Сам я сначала ни в чем не сомневался, радовался нежданным часам работы, не прерывавшимся ни приходом друзей, ни наплывом посетителей, ни, наконец, какими бы то ни было развлечениями, и усердно, хотя и не без известной ажитации, продолжал трудиться над «Эгмонтом». Кстати сказать, этой пьесе, движимой многообразными страстями, должно было пойти на пользу, что писал ее человек, не вовсе им чуждый.
Так прошли восемь дней и сколько-то еще, сколько — я сам не знаю, и одиночное заключение стало уже тяготить меня. За многие годы я привык к жизни под открытым небом, в обществе друзей, с которыми у меня существовали взаимно-откровенные отношения, скрепленные общими интересами, вблизи от возлюбленной, которая, покуда еще была возможность видеть ее, неудержимо влекла меня к себе, — все это до такой степени меня растревожило, что притягательная сила работы над трагедией стала убывать и поэтическая продуктивность, казалось, вот-вот иссякнет под напором нетерпеливого волнения. Уже несколько дней мне было невмочь оставаться дома. Закутавшись в широкий плащ, я бродил впотьмах по городу, прокрадывался мимо домов моих друзей и знакомых и, уж конечно, оказался под окнами Лили. Она жила в первом этаже углового дома, зеленые шторы были спущены; все же я заметил, что свечи стоят на обычных местах. Вскоре я услышал ее голос: она запела, аккомпанируя себе на клавесине; это была песня «Что влечешь меня неудержимо…», меньше года назад написанная мною для нее. Мне, верно, только чудилось, что она поет ее проникновеннее, чем когда-либо, каждое слово отчетливо доносилось до меня; я приник ухом к окну, насколько это позволяла загораживавшая его решетка. Лили допела песню, и по тени, падавшей на шторы, я увидел, что она встала и туда и назад заходила по комнате, но я тщетно старался различить ее изящный силуэт сквозь густую ткань. Только твердое решение уйти, не навязывать ей своего присутствия, порвать с нею окончательно, да еще мысль о том, сколь странный эффект произвело бы мое появление, заставили меня покинуть милую близость.
Прошло еще несколько дней; гипотеза отца становилась все правдоподобнее, тем более что не было даже письма из Карлсруэ, объясняющего причины задержки с экипажем. Моя трагедия замерла на мертвой точке. Тогда отец решил обернуть в свою пользу тревогу, меня терзавшую, и заявил: раз уж вещи уложены, менять решения не следует, он даст мне денег на поездку в Италию и откроет кредит в итальянском банке, но отправиться в путь мне следует без промедления. Сомневаясь, мешкая, так как решение было слишком важно, я наконец положил: если до назначенного мною срока не прибудет ни экипаж, ни хотя бы какая-то весточка, я уезжаю сначала в Гейдельберг и оттуда, уже не через Швейцарию, а через Граубюнден и Тироль, в заальпийские края.
Разумеется, происходит много нелепиц, когда беспечную юность, которая и сама легко сбивает себя с толку, направляет на ложный путь старческая пристрастность. Но и в юности, и в жизни вообще мы, по большей части, начинаем учиться стратегии, лишь воротившись из похода. Собственно говоря, такие случайности легко объяснимы, но мы очень уж любим вступать в заговор с заблуждением против естественного и правдивого; так мы тасуем карты, прежде чем сдать их, чтобы не воспрепятствовать случаю вмешаться в игру. Отсюда возникает стихия, в которой и на которую воздействует демонизм, тем хуже путая наши карты, чем больше мы подозреваем о его присутствии.
Прошел последний день, на следующее утро мне надо было уезжать, как вдруг я почувствовал необоримое желание еще раз повидать моего друга Пассавана, только что возвратившегося из Швейцарии, ибо он имел бы все основания на меня рассердиться за то, что я подорвал наши взаимно доверительные отношения полным молчанием о своих намерениях. Посему я через незнакомого мне человека назначил ему свидание ночью в определенном месте, куда и явился раньше его, закутанный в плащ; он тоже не заставил себя ждать и, удивленный самим вызовом, еще больше удивился, узнав, кто его вызывал. Впрочем, радовался он, пожалуй, даже сильнее, чем удивлялся, и, конечно, об уговорах и советах нечего и говорить; он пожелал мне счастливой поездки в Италию, и мы расстались. На следующее утро я уже ехал по горной дороге.
На то, чтобы отправиться в Гейдельберг, у меня было несколько причин: одна, разумная, заключалась в том, что, как мне было известно, веймарский друг проездом в Карлсруэ не мог миновать Гейдельберга; прибыв туда, я тотчас же оставил на почте записку, попросив вручить ее господину, которого я описал; вторая причина носила любовный характер и касалась моих прежних отношений с Лили. Дело в том, что демуазель Дельф, бывшая поверенной нашей любви, более того — ходатаем перед родителями за союз более серьезный и прочный, жила в Гейдельберге, и я почитал за счастье, прежде чем покинуть Германию, еще раз вспомянуть с почтенной, терпеливой и предусмотрительной подругой те счастливые времена.
Я был хорошо принят и представлен нескольким семействам; более других мне пришелся по душе дом главного лесничего, господина фон В. Родители — чинные, приятные люди, одна из дочерей напомнила мне Фридерику. Была как раз пора сбора винограда, погода стояла чудесная, и в долине Рейна и Неккара во мне вновь ожили все мои эльзасские чувства. За это время я испытал много странного и на многие странности нагляделся, но все было еще в становлении, результат жизни не сложился во мне, и то бесконечное, с чем я столкнулся в недавнем прошлом, скорее сбивало меня с толку, чем умудряло опытом. Впрочем, в обществе я был таким же, как раньше, даже, может быть, более любезным и занимательным. Здесь, под открытым небом, среди жизнерадостных людей, мне вспомнились старые игры, для молодежи вечно остающиеся новыми и прельстительными. С прежней, еще не угасшей любовью в сердце я, сам того не желая и ни слова о прошлом не говоря, возбуждал участие; вскоре я и в этом кругу почувствовал себя не только своим, но даже необходимым человеком и вовсе позабыл, что после двух-трех приятных вечеров намеревался продолжить свое путешествие.