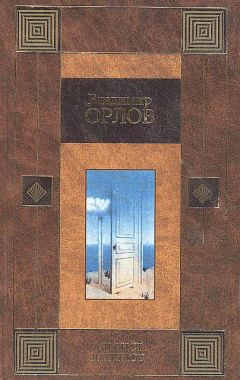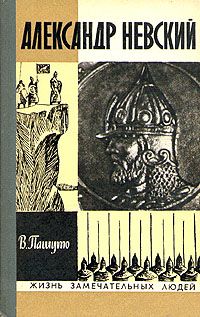2. Утверждать, что исторические повествования рассказывают о событиях, которые не могли произойти, равносильно утверждению, что у нас есть какой-то критерий, благодаря которому мы и получаем возможность судить о том, что могло произойти, основываясь не только на дошедших до нас свидетельствах. Декарт здесь предвосхищает возникновение подлинно критического метода в историографии, полное развитие которого явилось бы ответом на его собственное возражение.
3. Ученые Ренессанса, возрождая многие элементы греко-римской концепции истории, возродили и ту ее идею, что история имеет практическую ценность, ибо учит людей искусству политики и практической жизни. Эта идея была неизбежна в то время, когда люди не могли найти теоретических основ для иного подхода к истории, согласно которому ценность истории имеет теоретический характер и заключается в ее способности открывать истину. Декарт был совершенно прав, отвергая эту идею. Фактически он предвосхищает замечание Гегеля из введения к его «Философии истории», замечание, согласно которому единственным практическим уроком истории является то, что она никого и никогда ничему не научила. Но Декарт не видел, что современные ему исторические труды таких людей, как Бьюкенен{18} и Гроций{19}, а в еще большей мере работы историков, принадлежавших к поколению, еще только вступавшему в науку (Тиллемон{20}, болландисты{21}), были продиктованы простым стремлением к истине. Прагматическая концепция истории, которую он критиковал, была в то время мертва.
4. Говоря, что исторические повествования преувеличивают величие и великолепие прошлого, Декарт фактически предлагает некий критерий, с помощью которого их можно подвергнуть критике, а истина, скрываемая или искажаемая ими, может быть восстановлена. Если бы он продолжал работать в этом направлении, он мог бы создать основы метода исторической критики, кодекс ее правил. Приведенный выше тезис фактически и становится одним из этих правил, сформулированных в начале следующего столетия Вико. Но Декарт не понимал этого, потому что его интеллектуальные интересы были столь определенно сориентированы на математику и физику, что, когда он писал об истории, он ошибочно принимал плодотворные указания, направленные на усовершенствование исторического метода, за доказательство полной невозможности такого усовершенствования.
Таким образом, отношение Декарта к истории было причудливо-неопределенным. Коль скоро речь идет о его намерениях, он в своей работе стремился к тому, чтобы поставить под сомнение ценность истории, как бы ее ни понимать, ибо он стремился отвлечь людей от истории, направить их усилия на развитие точной науки. В девятнадцатом столетии наука пошла своим, независимым от философии путем, потому что послекантовские идеалисты начали проявлять все более скептическое отношение к ней. Разрыв стал ликвидироваться только в наше время. Это отчуждение было совершенно аналогично тому, которое возникло в семнадцатом веке между историей и философией под влиянием аналогичной причины — исторического скептицизма Декарта.
§ 6. Картезианская историография
В действительности же декартовский скептицизм ничуть не обескуражил историков. Скорее они восприняли его как вызов, как призыв к тому, чтобы, отдалившись от философии, разработать собственный метод, открывающий возможность критической истории, а затем, обогатившись новым знанием, вернуться к философии. В течение второй половины семнадцатого века возникла новая школа исторической мысли, которая, как это ни парадоксально звучит, может быть названа картезианской историографией, подобно тому как французская классическая драма этого периода была названа школой картезианской поэзии. Я называю ее картезианской историографией, потому что, как и картезианская философия, она была основана на методическом сомнении и полном признании критических принципов. Главная идея этой новой школы сводилась к тому, что историк не должен учитывать свидетельства письменных источников, не подвергнув их критическому анализу, основанному по крайней мере на трех методических принципах: 1) на собственном правиле Декарта, правиле, которое он хоть и не сформулировал, но подразумевал: никакой авторитет не должен заставлять нас верить в то, что, как мы знаем, невозможно; 2) на правиле, требующем сопоставлять различные источники друг с другом, чтобы они не противоречили друг другу; 3) на правиле о том, что письменные источники надо проверять неписьменными. История, понимаемая таким образом, все еще основывалась на письменных свидетельствах, на том, что Бэкон бы назвал памятью. Но историки теперь учились воспринимать их критически.
Я уже упоминал в качестве примера представителей этой школы — Тиллемона и болландистов. «История римских императоров» Тиллемона была первой попыткой создать римскую историю, в которой внимание историка все время было направлено на то, чтобы согласовать свидетельства разных источников. Болландисты, школа ученых монахов, поставили перед собой задачу переписать жития святых, пользуясь критическим методом и устраняя из них все неправдоподобные чудеса. Болландисты углубились гораздо дальше, чем кто-либо до них, в проблему источников, в то, как рождаются предания, передаваемые от поколения к поколению. Именно этой эпохе, и в особенности болландистам, мы обязаны идее анализа традиции, анализа, учитывающего те искажения, которые вносились посредниками, ее передавшими. Тем самым они раз и навсегда решили старую дилемму, предписывающую либо принять традицию в целом как истинную, либо отбросить ее как ложную. В то же самое время они тщательно исследовали, что дают монеты, надписи, грамоты и другие нелитературные свидетельства для проверки и иллюстрации рассказов и описаний историков-повествователей. Именно в этот период Джон Хорсли{22} из Морлета в Нортамберленде собрал первую систематическую коллекцию римских надписей в Британии, руководствуясь идеями итальянских, французских и немецких ученых.
Этого движения почти не заметили философы. Новый исторический метод оказал большое влияние лишь на одного первоклассного мыслителя — Лейбница. Он применил его к истории философии, достигнув при этом выдающихся результатов. Мы можем даже назвать его основателем этой науки в новое время. Он не оставил обширных сочинений в данной области, но все его труды обнаруживают знание античной и средневековой философии и ему мы обязаны концепцией философии как непрерывной исторической традиции, в которой завоевания мысли связаны не с провозглашением совершенно новых и революционных идей, но с сохранением и развитием того, что он называл philosophia perennis[38], т. е. вечных и неизменных истин, которые всегда были известны людям. Эта концепция, безусловно, делает слишком большой упор на идее постоянства и обращает слишком мало внимания на изменение. Философия понимается им в значительной степени как некое неизменное собрание заимствованных и вечных истин. Лейбниц здесь явно недооценивает постоянную необходимость ее перестройки усилием мысли, выходящей за границы прошлого. Но это означает только то, что лейбницевская концепция истории представляет собою типичный продукт той эпохи, когда отношение между постоянным и меняющимся, между истинами разума и истинами факта еще не было до конца осознано. Взгляды Лейбница означают rapprochement[39] между отчужденными сферами истории и философии, но еще не их эффективное взаимодействие. Вопреки этой строго исторической тенденции в философии Лейбница и вопреки блестящей работе, проделанной Спинозой как основателем критики Библии, общее направление картезианской школы было резко антиисторическим. Именно это и привело к упадку картезианства в целом, к его дискредитации. Мощное новое движение исторической мысли, развившееся фактически вопреки запретам картезианской философии, уже самим фактом своего существования опровергало ее. Когда же пришло время для открытого наступления на ее принципы, люди, возглавившие его, естественно, оказались людьми, чьи главные творческие интересы лежали в сфере истории. Я расскажу о двух таких атаках на картезианство.