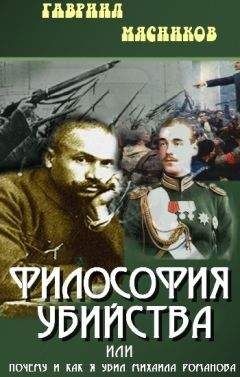За дровами для клиник надо было ездить в Кунцево. В Кунцеве нам отвели для заготовок дров прелестные участки леса на берегу Москвы-реки. Уже выпал снег. Вооружившись топорами и пилами, мы весело рубили вековые деревья и, как и другие группы организованных москвичей, уничтожали могучие березы, чудесные липы, столетние сосны, видевшие, возможно, еще Пушкина и, уж во всяком случае, Тургенева (мы вспоминали его описание этих мест в «Первой любви» и «Накануне»). А что Тургенев, что липы? «Лес рубят — щепки летят», — говорили мы не про лес, а про жизнь, про судьбу России.
Мы были всегда немного голодны. В Москве жилось уже трудно. Любовь Николаевна как-то доставала еду через театр. Она постоянно где-то выступала на концертах; платили «за халтуру» пайком — хлебом, крупами, иногда колбасой, из дома мне посылали караваи черного хлеба, в которые запекались яйца (нельзя было посылать яйца как таковые). Мешочники заполонили поезда; дачные поезда привозили молочниц с разбавленным водой молоком.
Я съездил домой на два дня в связи со смертью бабушки и оттуда возвращался, одетый в броню — мешок в форме жилета, наполненный мукой. Муку провозить не давали. В поезде производили облавы на спекулянтов, наши же считали, что взять с собою в Москву муку на оладьи не значит идти против Советской власти. Ехать в битком набитом вагоне третьего класса с мукою вокруг тела была мука. Всю ночь, пока поезд тащился, простояли на ногах, под утро — пересадка на станции Бологое, надо было брать штурмом подножку или буфера в переполненном поезде, следующем из Петрограда. Но вот, слава богу, в Москве.
Голод и мешочничество породили вспышку сыпного тифа. В Москве открылось несколько сыпнотифозных больниц и бараков. Студентов призвали на тиф. Особенно много больных поступало с вокзалов. Тиф свирепствовал и среди бойцов, сражавшихся на фронтах Гражданской войны. Я нес дежурства. Больные бредили, умирали. Не было мыла. Вши стали врагом похуже белогвардейцев. Народный комиссар здравоохранения Н. А. Семашко[30] широко привлек к работе специалистов-инфекционистов, санитарных врачей (Сысина[31], Флерова[32], Тарасевича[33], Барыкина[34], Гамалею[35]). Считалось, что врачи готовы положить все силы на борьбу с эпидемиями и что они преданы стране, что не может быть и речи о каком-либо саботаже, и, каковы бы ни были их старые политические убеждения, врачи абсолютно готовы сотрудничать с советским правительством. Можно сказать, что эпидемии, не сломив нового строя, привлекли к нему стихийно медицинских ученых, медицинскую общественность.
На каникулы я еле добрался домой. Мне хотелось отдохнуть и поправиться. Но в Сочельник у меня повысилась температура, и вскоре я потерял сознание. Сыпной тиф был в тяжелой форме, опасались за исход. Только на девятый день я пришел в себя, но по временам продолжал еще бредить. Бред был красочный. Я чувствовал себя разорванным на части, куда-то лез — не то вверх, не то вниз, кто-то бил меня по голове и поджигал, но потом я ощущал, что нас двое: один — это я, другой — тот, с которым я спорил на собрании. Потом бред стал более приятным: море, детство, дома — и наконец, окруженный испуганными родителями, я очнулся, да, действительно, дома. «Как хорошо, что вы тут», — сказал я.
Ухаживать за мной приехал из Москвы Борис Тихвинский. Он только что вступил в партию большевиков, что не помешало нам быть друзьями. С его помощью я стал вставать. Мои кудрявые волосы стали падать, выросли потом гораздо более редкие и слишком мягкие — начало плеши. Чтобы наверстать пропущенные занятия, я читал Эйгхерта и Штрюмпеля (толстые многотомные руководства). Вообще, мы не стеснялись размерами учебных пособий и читали подряд том за томом.
В Москве опять лекции. Профессор Гавриил Петрович Сахаров[36] по общей патологии читал об иммунных телах так, точно он их ощупывал или видел. Он был учеником Эрлиха[37], говорил заикаясь, но четко и интересно. Временами Сахаров прибегал к шуткам, чтобы снять неизбежное утомление аудитории. Иногда эти шутки были вызывающими. Например, демонстрируя так называемую висячую каплю с кишечной палочкой (B. Coli Communis), он шутил: «Передаю вам по рядам висячего Колю-коммуниста». Студенты, в том числе большевики, смеялись, не обращая внимания на выходки уважаемого профессора, кстати, холостяка и церковного старосты.
Надо было добираться пешком от Страстной на Девичье поле. Трамваи не ходили. В комнатах поставили дымящиеся буржуйки. Свет давали скудно. Магазины были заколочены. Базары разгонялись. И все же жизнь продолжалась: спорили, заседали, учились, ходили в театр и на концерты. И я помню, в воздухе было что-то такое захватывающее, героическое, как будто стучала поступь истории. Нам нравились тогда «Двенадцать» А. Блока.
Лето — опять дома. Отец по вечерам стал подолгу ходить в поле, собирая гербарий (скирды, ястребинки и другие травы). У нас жил мой товарищ по университету Виталий Архангельский[38], он смеялся, когда отец произносил «плод волосистый, с хохолком» (по поводу какого-то растения), — Виталий вообще подмечал всегда что-то комичное и милое и весело шутил. Он готовил себя в специальности офтальмологии, работал у Одинцова; приехал к нам с целью попрактиковаться на приемах у отца. Больные по-прежнему приезжали по базарным дням, иногда за прием совали пятьдесять яиц, шмат сметанного масла или немного мучки.
Мой брат Левик учил музыку, ему шел пятнадцатый год. Левик декламировал: «Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах», и я иногда думал, что эта строфа о буржуазных интеллигентах, о либералах, которые робко прятались в своей профессии и тоскливо читали газеты и все чего-то такого ждали. Нет, они ждали не реставрации монархии, а свободы, как они ее понимали (слова, верований, личности). Но все это объективно уже сделалось антисоветским. Все партии исчезли. Оставались один Ленин и его партия, а главное — класс, отстаивавший свое государство.
Четвертый курс — весь на Девичке, и я переселился в Лепшкинское общежитие (на Зубовской площади). У нас с Сережей Поздняковым была комната на двоих. Дружелюбный и сговорчивый Сережа оказался очень подходящим компаньоном.
Моя мать переехала с Левиком в Клин, поступила доучиваться на врача на медицинский факультет, на пятый курс, и по временам жила в том же общежитии.
Поздней осенью стало в номерах холодно, и мы перекочевали на кухню. Мы ложились на плиту, столы, на пол. По субботам на воскресенье мы отправлялись в Клин, где тетка Ольга Александровна кормила нас запеканками, морковниками и кофе с булочками. Ее муж, доктор Н. П. Петров, похваливал большевиков и продолжал принимать больных; у них было сытно, уютно, тепло, как обычно, точно ничего в мире не случилось, только кофе был желудевый и булочки из полубелой муки. В Москве же мы варили пшенную кашу или черные макароны. Нам выдавали паек, не помню какой (сколько разных пайков было за время моей жизни!).