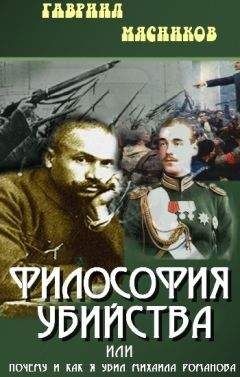Мы были кураторами одной больной, очень милой женщины, артистки. У нее была очаровательная девочка шести лет; фотокарточку дочки она держала на прикроватном столике. Молодая дама страдала желчнокаменной болезнью, приступы, правда, были редкими, но ее уговорили лечь на операцию. На операционном столе она говорила: «Я боюсь. Помните, что у меня есть дочь». Мы стояли рядом (мы с нею очень подружились, она нас угощала конфетами, а ей в палату мы приносили цветы), она, засыпая под эфиром, еще улыбалась нам. Операция затянулась. Хирург не заметил, что лигатура на культю желчного протока соскочила, и желчь пошла в брюшную полость. Не приходя в себя, больная скончалась. Мы были потрясены. Возможно, с того момента я и стал терапевтом.
На занятиях по акушерству мы заучивали «Правая ложка называется правой потому, что вводится правой рукой в правую сторону матери и не имеет замка». Рождение ребенка нас трогало, счастливая улыбка матери говорила, что все хорошо в этом лучшем из миров.
На лекциях по кожным В. В. Иванов[46], угрюмый, сутулый дядя в военном кителе, скрипучим голосом говорил что-то об элементах (то есть кожных сыпях) и любовно ощупывал сифилитическую папулу, предлагая это делать боязливым слушателям, приговаривая: «Спирохеты не прыгают».
На лекциях по нервным болезням профессор Григорий Иванович Россолимо[47] нас всегда привлекал не математикой топической диагностики и не безрадостным лечением больных (да и сейчас оно почти не улучшилось), а своим обликом. Мы знали, что это друг А. П. Чехова. Кроме того, Россолимо был крупный ученый, известный своими оригинальными трудами (студенты, не вникая в суть этих достижений, обычно угадывали, кто истинный ученый, а кто говорит с чужого голоса). Наконец, он казался нам обаятельным в своем душевном подходе и деликатной речи. На праздновании Татьянина дня он нам, студентам, сказал, перефразируя слова Калигулы: «Как жаль, что вы не имеете одной головы, но не для того, чтобы ее снять, а чтобы ее обнять» (и я был горд, что при этом он обнял меня). Правда, мы подсмеивались над его детскими тестами (определявшими внимание, комбинационные способности и т. п.), нам казалось, что умный человек по этим пробам выйдет в дураки, а дурак, чего доброго, сойдет умницей.
На рождественские каникулы я поехал домой. Только начал я флиртовать с девицей, какой-то беленькой курсисткой, на катке, как заболел мой отец. Он ездил незадолго до этого к больному на станцию Сопково и запомнил, что его укусила вошь в переполненном и грязном вагоне (первых или вторых классов уже не было). Через положенный срок начался сыпной тиф. Отцу было 62 года, у него был, по-видимому, склеротический шум в сердце; последнее время он часто жаловался на боли в груди, но не прерывал работы, а только говорил жене: «Зинаида, я скоро умру». Но обычно таким заявлениям никто не придает значения.
Я почти все время дежурил у него в комнате. Он был в сознании, мы даже обсуждали с ним «Закат Европы» Шпенглера (книгу, тогда наделавшую шуму). Я сообщил отцу о том, что нового известно по сыпному тифу (только недавно вышли на эту тему монографии). Он говорил, что голова у него не болит, только как-то маетно. В ночь с 5 на 6 января температура стала падать, но он потерял сознание, наступила агония, длившаяся до полудня Крещения.
Смерть отца всколыхнула весь город и окрестные районы. Гроб дорогого человека в привычных комнатах, в которых протекало ваше детство, — жуткое зрелище. Но дело не в этом, просто было бесконечно грустно. Это был большой удар для меня, и я сразу перешел из поры юности в пору зрелости. Хоронили торжественно, при небывалом стечении народа, все служащие, учащиеся и т. п. были отпущены со службы и занятий, а все учреждения города закрыты; из деревень приехали крестьяне; члены исполкома и друзья сказали хорошие речи.
Потеря отца — для сына как будто неизбежное, предусмотренное самой природой испытание, и оно обычно преодолевается, как бы ни были крепки родственные связи. И вот я снова в Москве; я был так глубоко потрясен, что сосредоточил все свои усилия не на том, чтобы казаться театрализованно мрачным, а, напротив, чтобы спрятать свое горе и не показывать его чужим.
Мрачная зима, казалось, на исходе. Вот уже и февраль 1921 года. События на юге приняли более благоприятный оборот, но вдруг разразился Кронштадтский мятеж. Это был, по-видимому, кульминационный пункт борьбы после Октября. Ведь выступили, пусть обманутые, моряки — те самые моряки, кронштадтцы, которые брали Зимний и разгромили Керенского под Пулковом. В эти дни оживились вылазки эсеров и меньшевиков на заводах и в высших учебных заведениях.
В Богословской аудитории была созвана сходка, на которой от горкома партии выступал Невский по текущим событиям и призывал к отпору контрреволюции. Потом выступали студенты, и в том числе я (и кто меня дернул, просто не понимаю). Говорил я о желании молодежи иметь самоуправление, о свободе личности и слова. После меня выступил кто-то, заявив, что речь моя в такое время звучит не только несвоевременно, но прямо подозрительно. Я уже и сам понял, что наболтал лишнего, и все последующие дни был в беспокойстве, так как шли аресты студентов. Каждый вечер я ложился спать и прислушивался, не стучат ли в дверь. Бежать? Куда? Почему? Что я сделал преступного? Через несколько дней ночью действительно раздался стук, и два или три чекиста предъявили мне ордер на обыск и арест. Помню, я дрожал, старался сдержать дрожь и не мог. В этот момент вошла в нашу комнату моя мать и стала собирать мне вещи и продукты. Мы попрощались с нею и с товарищами по общежитию — все мое волнение разом стихло, стало даже интересно. Меня посадили в легковой автомобиль и по пустынным улицам повезли на Лубянку. Там дали заполнить анкеты: «Чем занимался до революции отец», «Чем вы занимались до революции», «Ваше отношение к советской власти». Этот последний вопрос поставил меня в тупик. Как ответить? Я сам не задавал себе этого вопроса: как, в самом деле, я отношусь к советской власти, как это сформулировать? Не отрицательное и не враждебное, это ясно. Написать «положительное, лояльное» как-то неловко, за что же тогда меня посадили, это уже было заискиванием.
Нет, ничего не напишу. Если спросят, скажу (так и не спросил никто). Какая-то девица, служившая там, мне показалась знакомой. «И я вас узнала, я же студентка 2-го Университета»[48]. «Вот тебе и на», — подумал я; следовательно, и у нас, поди, имеются такие.
Потом меня ввели в переполненное людьми помещение, так называемый корабль — очевидно, это был раньше склад или антресоли бывшего зала. Какие-то галереи. И вот я — заключенный. Все «политические» посажены недавно, много студентов, это перевалочный пункт, потом уже настоящая тюрьма. Мы знакомимся. Уже утро, но не хочется спать; нам приносят кипятку, мы едим то, что было с собой захвачено; как будто действительно куда-то плывем, может быть, в трюме. Потом вызывают по партиям сгребать выпавший только что обильный снег. Мы весело действуем лопатами, но слышим где-то вблизи шум проснувшейся Москвы, и меня опять берет тоска. Потом все ждут допроса.