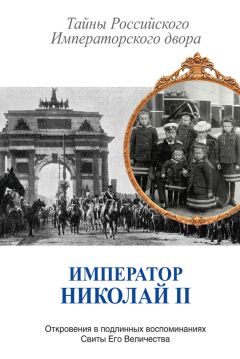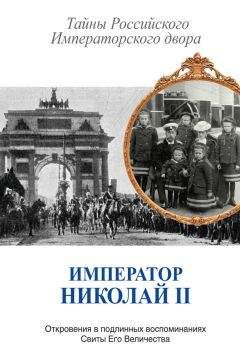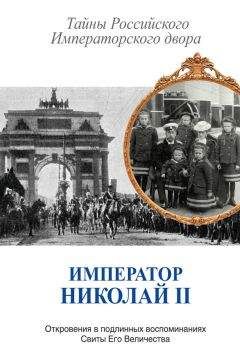Затем ее выбор кавалерийской казачьей сотни был продиктован их репутацией: как староверы, они придерживались строгих нравов. Их пика, слишком тяжелая для женщины, была для Юлии заменена саблей [2]. Летом 1915 г. при виде огромного деревянного Распятия, уцелевшего среди страшных развалин и неубранных трупов, «ей вдруг показалось, что именно в эту минуту что-то открылось в ускользавшей от нее раньше тайне христианства, тайне страдания, непосильного для человечества, если бы не было Богочеловека, Который освятил страдание…» [3].
Это видение описано в «Ночных письмах»* (гл. 3): «Искупительное страдание – единственный способ раскрытия вселенской тайны… Ни один богословский трактат не научил меня так многому, как это видение, возникшее в ночной тьме, в смертельной тишине, на бедном клочке земли, пропитанном кровью».
В Вильно (Вильнюсе) в сентябре 1915 г. Юлия чуть не погибла под немецкой бомбардировкой, и, покрытая кровью еврейского ребенка, которому она дала горсть сахара, она вспомнила предсказание старца [4]. Патриотизм, мужественный характер Юлии, ее влечение к опасности [5] и родовая память [6] определили ее участие в боевых действиях, хотя она вполне могла бы остаться при дворе. Если бы не болезнь матери и родственников, она продолжала бы воевать: «В рядах российского воинства ты могла, переодевшись мужчиною, служить верою и правдою – заслужила Георгиевские кресты, унтер-офицерский чин; не будь революции, тебя за следующим крестом ожидал темляк прапорщика, тебе уже сулили» [7].
Сестра Мари Тома пересказывает поведанные Юлией в монастыре Пруй воспоминания о войне, не подтвержденные другими источниками, но не оставляющие сомнений в их достоверности:
«Вспыхнула война 1914 г., и она оказалась готова полностью посвятить себя тому, чтобы лечить раненых, идти за ними на поле боя. Во главе группы из 50 солдат „скорой помощи“ она приходила туда, где была необходима. Иногда ей доверяли секретные послания в зашифрованных депешах. Для этой души, такой большой, героизм был естественным. Однажды она с риском для собственной жизни спасла немецкого раненого, полумертвого от холода. Она легла на него, сделала ему искусственное дыхание и укрыла своим полушубком; а у нее самой тогда были отморожены руки и ноги. Лишь благодаря усиленному уходу ей удалось избежать ампутации. Однажды ее послали подобрать отравленных газом солдат. Юлия взяла противогаз и пошла, но, прибыв на место, она его сняла и организовывала колонну машин „скорой помощи“, пока сама не свалилась, отравившись газом» [8].
Когда Юлия вернулась в Петроград, Керенский попросил ее руководить женским батальоном, но она отказалась [9]. В июне 1917 г. при поддержке Временного правительства Мария Бочкарёва (1889 – казнена ЧК в мае 1920-го) организовала «Женский батальон смерти», после которого были созданы еще несколько женских батальонов [10].
В декабре 1915 г., после долгого перерыва, Юлия запечатлела в «Наедине с собой» крик о любви к поруганной Святой России:
«Целый год, нет, полтора года я не раскрывала этой тетради. Пятнадцать месяцев войны, тяжелой работы близ поля брани, среди неумолчной пальбы, стонов, среди военной грозы, по колена в море крови… На прошлое оглядываешься с недоумением: да было ли оно? Возможно ли было жить в мирной обстановке? Будущее темно: что сулит грядущий год? Долгожданную, желанную победу или крушение всех идеалов и смерть?..
Кровь льется, кровь, кровь везде, на всем, на всех нас „и на чадах наших“ [11]. Изредка среди громов войны чудится странный возглас: „взыщется на роде сем вся кровь, пролитая от начала мира, от крови Авеля до крови Захарии, его же убиети между церковью и алтарем“ [12], до крови всех павших в эту страшную бессмысленную войну, потопившую в крови все святилища человеческого духа.
Кровь, кровь, кровь везде, на всем! Мир захлебывается в крови. Но, быть может, он искупается этими кровавыми потоками? Быть может, согласно древним учениям, кровавая баня несет очищение и возрождение обагренному кровью человечеству?..
Кто знает?
Но как трудно мыслить о вечности среди этого урагана смерти, уносящего миллионы человеческих жизней, как сор, сметаемый ветром! Как трудно думать о человечестве, когда душа болит за одну только Россию, измученную, истерзанную, бесконечно дорогую!
Россия была моей первой любовью, будет и последней. Как страстно хотелось ее видеть великой, прославленной, освященной венцом тысячелетних идеалов, преклониться перед величием осуществленного Третьего Рима!..
Сбудутся ли эти пламенные мечты? Омытый кровью и слезами, возродится ли Третий Рим в несравненном величии? Или все рушится в бездну обманутых надежд в кровавом зареве решительной, роковой катастрофы?..
Кто знает?
Но любовь к ней все растет и крепнет, безумно-страстная любовь к измученной Святой Руси. Если суждено ее увидеть вознесенной и прославленной, окрепшей и венчанной диадемой нового Рима – да будет благословен этот час, ради которого стоило жить, ради которого жаль еще умирать, не воспевши „Ныне отпущаеши“… [13] А если этому не бывать, если Святой Руси суждено пасть и быть раздавленной в мировой катастрофе – да будет благословенна смерть, избавляющая от горечи этого мгновения…
Жизнь и смерть сейчас все для тебя, Россия! Все молитвы, чувства, силы, мечтания, порывы – все для тебя, для твоего величия. Вся кровь моего сердца и все силы моего духа – все тебе, Россия, все для тебя!..» (с. 45–46).
Юлия продолжит вести свой дневник только в ноябре 1916 года:
«Опять целый год не раскрывалась эта тетрадь! Еще целый год проведен среди громов военной бури, без помысла о чем-либо, кроме общей святой страды, кроме напряжения всех духовных сил и упований, и мечтаний к единой вожделенной и все еще далекой цели. Как далеко она еще, безумно-желанная победа! Как мучительно долго тянутся месяцы кровавой бойни, точно гнетущий кошмар, от которого нет пробуждения. Да и наступит ли когда это пробуждение, по крайней мере для нас, участников мировой драмы, отдающих ей все свои силы и осужденных на неизбежное духовное истощение?
Как обаятельна Смерть! Два года сижу я гостем на ее кровавом пиру, хмелея от ее властного призыва. Лишь в ней – красота и смысл жизни, лишь в ней – отдых и покой для исстрадавшейся души. И часто кидалась я очертя голову в ее объятия, но она меня отталкивает… Рано?.. Надо жить?.. Но для чего?..» (с. 47).
А 12 декабря 1916 г. Юлия пишет:
«Сегодня я принялась за свой большой труд, план которого ношу в себе уже три года, а осуществление отложила до окончания войны, ибо за последние 28 месяцев не могла сосредоточить своей мысли на чем-либо, кроме кризиса, переживаемого Россией. Но идут месяцы, годы – острота переживаний притупляется, а духовная тоска растет и ширится, повелительно требуя себе выхода хотя бы в живой творческой работе. Мне думалось, что смерть близко – но ее все нет, жизнь предъявляет свои права, права духа на созерцание и творчество вне рамок зловещей и постылой реальности. Итак, я приступаю сегодня к работе над историко-философской трилогией. Первая часть ее, „Два Рима“, очертит идею Рима как синтеза государственного и духовного единства, доныне живого и действенного в чаянии „Третьего Рима“ – как восстановителя утраченного синтеза. Вторая часть трилогии, „Свет мира“, обрисует духовную и в особенности религиозную сторону, выраженные в синтезе Рима, будут рассмотрены в лице своих носителей и властителей дум в разные эпохи „двух Римов“ до нашего времени. Третья часть трилогии, „Соль земли“, будет изображением конфликта между обрисованными во второй части носителями духовных идеалов и внешними условиями исторической эволюции, угашавшими дух и приведшими к временному творчеству цивилизации чисто материальной. Здесь же, вероятно, найдут себе место мои предчувствия о будущем, если они не попадут в другой, независимый от трилогии труд мой – „Обрывки созерцаний“. Впрочем, сколько еще роится планов в голове! Сколько раз изменялись намеченные уже мысленно планы! Сколько еще хочется высказать и как мучительны иногда порывы к творчеству, столь родственные мукам рождения! Не одной, а нескольких долгих жизней хватило бы на выполнение намеченных задач творчества. А Смерть чуется так близко… Смерть с ее презрительной улыбкой над моими ничтожными усилиями борьбы с тьмою и забвением, Смерть с ее ласкающим покоем в бездне небытия…» (с. 50–51).