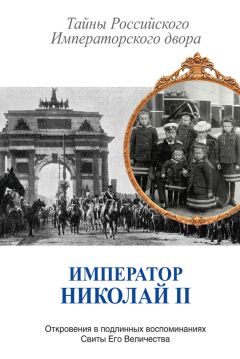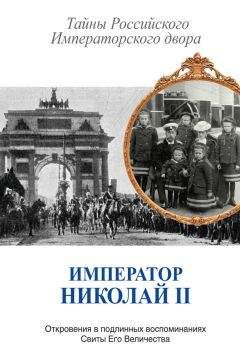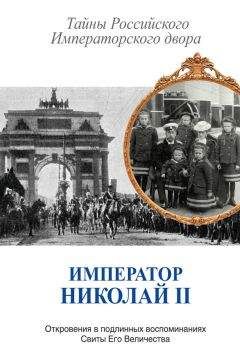«Мы сейчас хороним не державу российскую, а все три Рима, тысячелетние идеалы государственного и мирового единства…
Русская монархия погибла под напором международной демократии, направлявшей удары русских революционных партий. И торжество русской революции звучит похоронным звоном для всех пережитков заветной старины в Европе, стоящей накануне небывалой социальной революции. Варвары врываются в священные ограды, варвары духовные, не признающие никаких неосязаемых ценностей, злорадно растаптывающие все святыни духа. Им не надо ни дворцов, ни храмов, им нужно загнать все человечество в хлевы, где оно будет наслаждаться невиданными благами: братством международной черни, свободой стадного довольства, равенством животной тупости. И победа их близка, окончательная, омерзительная победа…
Что же будет дальше?
А дальше, когда-нибудь в далеком, далеком будущем, человечество очнется от тяжелого кошмара. Испив до дна чашу социальных утопий, оно гневно разобьет эту чашу, разорвет цепи духовного ничтожества. И вспомнятся ему давно забытые идеалы, светлые грезы о единении духа высоко над уровнем сытого стада. И сильные духом вновь вознесутся над нищей духом толпой и начнут в неведомой нам форме ковать новые устои жизни. Мечта о человеческом единстве вновь воскреснет, но не на основе стадного начала и уравнения по низшей мерке, а на новых основах иерархии духовной, оберегающей от черни недоступные ей ценности. Тогда вновь воскреснет римский идеал государственного синтеза, и стертые демократией национальные рубежи уже не встанут препятствиями на его царственном пути претворения в синтез мировой – земной символ мирового стремления к Единству духовному. К извечной Монаде [17].
Буди! Буди!
Но как невыразимо тяжело переживать крушение Третьего Рима!» (с. 56–58).
И вот в свете этой схемы трех Римов Юлия горько оплакивает надвигающуюся материалистическую и социалистическую революцию (а ведь это еще только Февральская революция). Юлию беспокоит не утрата привилегий, а отрицание христианских идеалов и надругательство над ними. Но она пророчески предсказывает конец утопического кошмара и возвращение духовности при восстановлении аристократии духа, которая возвысится над «плебсом». Отметим, что, несмотря на критику Православной церкви, еще ничто не предвещает перехода Юлии в Католическую церковь.
Глава 18‑я (все еще датированная маем 1917 г.), которой предшествует стих из Энеиды [18], показывает это желание умереть за родину, воодушевлявшее Юлию на войне. Но родина погибла под ударами революции. Тогда во имя чего жить?
«Как часто вспоминаются эти скорбные стихи, скорбные для тех, кому не дано было умереть вовремя за родину! Пасть бы в бою с сознанием, что отдаешь жизнь за свою земную святыню, – разве это не высшее счастье! А когда вместо этой блаженной кончины приходится влачить жизнь, оскверненную крушением всех святынь и всех идеалов, – разве это не тяжкая кара, наложенная за неведомые преступления! Жить, когда больше не за что умирать… […]
О, блаженство каторжника, знающего, за какое преступление он несет законную кару! О, блаженство всякого страдания, не усугубленного тяжким гнетом бессмысленности!» (с. 59).
«Но каким оружием можно бороться против массового кретинизма, против паралича элементарных государственных инстинктов?» – спрашивает Юлия. Е. А. Нарышкина записывает в своем дневнике (27 мая / 9 июня 1917-го):
«У меня была Юлия Николаевна Данзас. Она – молодец! Организует общество учительниц и других интеллигентных женщин с целью устраивать собрания для распространения здравых идей, настолько правых, насколько они вообще могут быть „правыми“ в настоящее время; она сама произносит речи в бывшем Екатерининском институте, который служит им аудиторией, и просто на улицах. Думаю, что она может иметь успех, хотя бы временный, так как все у нас зависит от впечатлений. Все же это хорошая мысль» [19].
Представленная ниже статья является тоже одним из способов протестовать против разложения государства.
Пораженчество: «национальное самоубийство»
В августе 1917 г. Юлия опубликовала патриотическую статью в «Русской свободе» – журнале, основанном в начале 1917 г. политиками конституционно-демократического направления – депутатами Думы Петром Струве (1870–1944, Париж), бывшим экономистом-марксистом; Николаем Львовым (1865–1940, Ницца) и адвокатом Василием Маклаковым (1869–1957, Швейцария). Там публиковались религиозные философы Николай Бердяев, Евгений Трубецкой, Семён Франк и другие. От правых (статьи в «Окраинах России») Юлия эволюционировала к центру.
В номере 18–19 «Русской свободы» вышла статья за подписью Ю. Николаев, датированная 30 августа и озаглавленная «Национальное самоубийство», в которой осуждалось пораженчество. Дезертирство, «вакханалия в тылу» случались уже во время русско-японской войны 1905 г., но это ограничивалось интеллигентскими кружками. Сейчас речь идет о народе. «Чем объяснить такое помрачение сознания и сердца нации?»
Не отрицая необходимости внутренних реформ, Юлия сожалеет, что интеллигенция систематически хулит свою родину и ее прошлое, что борьба за гражданские права стала антигражданской:
«Только упорством долголетней противогосударственной и антирусской пропаганды можно объяснить ошеломляющие нас ныне признаки глубокого народного разложения. Объяснить же их темнотою и политическою незрелостью русских народных масс было бы ошибкою перед лицом истории. Русский народ вовсе не настолько „моложе“ других европейских наций, чтобы можно было серьезно говорить о его незрелости. Его историческая эволюция протекла в условиях, мало схожих с историею его западных собратьев, но в хронологической параллели с нею. Вспомним, что, хотя началом национального бытия Германии и Франции принято считать Верденский трактат 843‑го года, фактически политическое самосознание этих наций начало определяться в Германии со времени Оттона Великого (973), во Франции – с началом династии Капетингов (987). […] Эти даты уместно вспоминать, сопоставляя им облик Руси Х и XI вв., Руси Владимира Святого и Ярослава Мудрого, крепкой своим единством расы и веры от Новгорода до устьев Днепра, тесно связанной с империалистской политикой Византии и уже мечтавшей о Цареградском наследии. Россия – ровесница великих западноевропейских наций, хотя и отошла от них в дальнейшем своем историческом развитии, в силу особо неблагоприятных условий. Но, как ни тяжелы были эти условия эволюции русской истории, они не помешали выработке национального самосознания и здорового государственного инстинкта, о которых свидетельствуют бесчисленные факты на протяжении многих веков истории русского народа. Русских людей XVI и XVII вв. скорее можно было упрекнуть в переоценке значения России, нежели в отсутствии патриотизма: вспомним пренебрежительное отношение к иностранцам, препятствовавшее введению Московской Руси в общее русло европейской культуры. Реакцией против этой замкнутости явился Петербургский период русской истории, впавший в противоположную крайность до полного затмения национального сознания. […]
Русское племя создало великое государство и веками лелеяло великодержавные идеалы. И только ныне, на наших глазах, выродилось оно в темное, озверевшее стадо без прошлого и без будущего. […]
Причины этого народного отупения приходится искать не в условиях исторической эволюции, а в той духовной пище, которой отравлялась народная душа в течение долгих десятилетий. То была отрава антинационализма, настойчивого и злорадного отрицания всего родного и самобытного, безотрадного презрения ко всему своему прошлому. Эта отрава просачивалась в народные массы через школу, через печатное слово, через устную пропаганду, через пример высших интеллигентных слоев, зараженных тем же беспримерным у других народов презрением к своей родине. […]
Русская интеллигенция ныне кается в том, что, увлеченная политической борьбой со старым режимом, она просмотрела надвигавшуюся угрозу бессмысленной классовой борьбы. Но не в этом главная тяжесть ее греха перед Россией. Каяться ей надо прежде всего в том, что в пылу борьбы с ненавистным режимом она кидала лозунги, враждебные самой идее государства, что во имя гражданской свободы она призывала к забвению гражданского долга, даже в периоды внешней опасности для государства. Каяться надо в том, что долгая подготовка политического переворота бессознательно выродилась в подготовку национального самоубийства. Борьба велась во имя необходимых внутренних реформ, но она протекла в союзе с противогосударственными течениями, от внутреннего сепаратизма до заграничного интернационализма включительно. Борьба велась во имя внутреннего возрождения, но исходной точкой ее было огульное отрицание тысячелетней истории. Люди, ковавшие будущее России, представляли себе ее прошлое каким-то болотом, забыв старую истину, что „Народ, не уважающий своего прошлого, не имеет права на будущее“ [20].
К чему удивляться плодам долгой, беспрерывной, искусной пропаганды? Где русский народ, русская молодежь, русская средняя интеллигенция могли научиться уважению и любви к родине, самоотверженному отказу ради нее от личных интересов? Один ли старый режим был виновен в том, что русская школа была рассадником космополитизма и антигосударственных идей? „Родина“ в каком-то непонятном ослеплении отождествлялась с „режимом“, чувство патриотизма считалось признаком дурного тона, над всяким печатным проявлением его тяготело моральное осуждение, невыносимее всякого цензурного запрета. Вспомним, какими презрительными кличками „казенного“ или „квасного“ патриотизма клеймились всякие попытки разбудить здоровое гражданское чувство. […]
Вспомним, как от литературы требовалось прежде всего обличение и осмеяние всего национально-родного, как ей навязывалось обязательство „гражданской скорби“, в рамках которой задыхалось вольное поэтическое творчество. И наша литература договаривалась до самооплевания, беспримерного у других народов. Могло ли развиться уважение к армии в стране, где прививалось брезгливое отвращение ко всякой „военщине“, где излюбленным в литературе отрицательным типом были военные, от „Ташкентских генералов“ [21] до героев Куприна? Могло ли созреть здоровое патриотическое чувство там, где все историческое прошлое России было предметом озлобленной насмешки, злорадного презрения, в лучшем случае пренебрежительного равнодушия?
Эти тенденции проявились с особенной силой за последние десятилетия как признак надвигавшегося кризиса. Но проблески их мелькали и в лучший период русской литературы, всегдашней выразительницы общественных настроений, несмотря на тягостную опеку цензуры. Вспомним характерное признание одного из наиболее чутких, наиболее свободных от злобной обыденщины русских поэтов:
Люблю отчизну я, но странною любовью [Ю. Н. Данзас цитирует восемь строк лермонтовского стихотворения].
Чарующая красота этого лермонтовского стихотворения поставила его в ряд лучших жемчужин русской поэзии. Но все же нельзя не признать, что нигде в мире, кроме России, оно не нашло бы себе места в хрестоматиях для юношества: выраженное в нем грустное признание в невозможности ценить родную старину вызвало бы к нему отрицательное отношение, несмотря на красоту его внешней формы. Западноевропейское юношество воспитывается на других образцах, неуклонно повторяющих урок теплой любви и восторженного преклонения перед своим историческим прошлым. […]
Французскому республиканскому юношеству одинаково дороги герои Наполеоновской эпопеи и средневековые рыцари: за Бонапартами или Бурбонами оно видит все время облик страстно любимой Франции и обожает всех создателей ее славы. […]
А в нашем ученом мире всякий проблеск патриотического чувства в научном труде считался бы позорным; русская мысль признавалась „передовой“ постольку, поскольку она могла отрешиться от собственной национальности и витать в безбрежном космополитизме. […]
И свойственная русской душе тоска по недосягаемым идеалам постепенно вырождалась в тоскливую злобу против русской действительности, в злобу, способную только на разрушение, но бессильную перед задачей созидания новых форм жизни» [22].