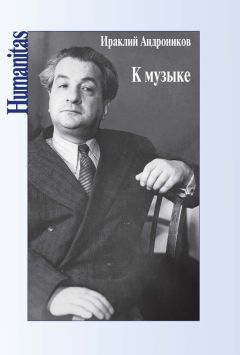После этого откровения в сознании моем возникли новые представления. У меня явилось предчувствие полной перемены в моей судьбе. Меня ждет иное, чем мастерская. Иное, чем жизнь на ферме. Иное, чем молот и резец, и розы из кованого железа, даже если они окажутся шедеврами! Передо мной открылся новый, необъятный горизонт. В эту ночь мы легли очень поздно, и мне так и не удалось заснуть. Меня обуял страх, что открывшийся у меня голос — не что иное, как игра природы и что на следующее утро, без лунного света, без горения восторга, без лихорадки, вызванной театральным представлением, я уже не смогу петь. На другой день, как только я пришел в мастерскую, я рассказал Катальди все, что случилось. Он захотел меня послушать сию же минуту, и страхи мои тотчас рассеялись. Голос мой понесся могучей волной и в большой мастерской казался еще прекрасней, чем в комнате. Неописуемой была моя радость! Мне хотелось заключить в объятия весь мир. Я развел огонь в кузнечном горне, но душа моя витала далеко за пределами кузницы. Огонь засверкал и засвистел, но я ничего не видел и ничего не слышал. Передо мной была сцена театра. Костанци и на ней Туридду и Сантуцца, которые отождествлялись для меня со Станьо и Беллинчиони и их неописуемым, волшебным пением.
Между тем время шло, и я по-прежнему тянул свою лямку в мастерской отца. Меня поддерживала теперь непоколебимая уверенность, что в один прекрасный день я расправлю крылья и улечу отсюда, но вовсе не для того, чтобы поступить в Неаполе на торговое судно или обосноваться у милых фермеров — сора Ромоло и соры Розы, а чтобы посвятить себя театру. Эта мысль крепко засела в моем сознании и всецело овладела мной. Теперь дело заключалось только в том, чтобы суметь выдержать свое время в мастерской. Проклятые мальчишки каждый день придумывали новые каверзы, а у меня уже не было сил ни терпеть их, ни бороться с ними. И, конечно, случилось то, что неминуемо должно было случиться.
Однажды утром четверо из этих юных преступников — наемные рабочие были в этот день заняты где-то вне мастерской, — подстрекаемые самым скверным из них, побились об заклад, что одним-единственным ударом молотка сумеют расколоть пополам новые ручки напильников, которые отец поручил мне, сказав, чтобы я берег их как зеницу ока. Каждая ручка стоила лиру, и мальчишки успели уже изломать три штуки, хотя они были сделаны из очень твердого дерева. Увидев, чем они занимаются, я решительно подошел к ним
с молотком в руке и приказал им тотчас же прекратить опасную забаву, в противном случае я расправлюсь с ними без всяких церемоний. Они, ни секунды не колеблясь, набросились на меня все сразу и началась потасовка. Вчетвером они, разумеется, смогли вырвать у меня из рук молоток и повалить меня на землю. Один из этих негодяев ударом кулака разбил мне губу. В эту минуту в мастерскую вбежал отец, с громкой бранью рознял нас и, увидев, что у меня изо рта течет кровь, пришел в ярость. Когда же я, плача отнюдь не от боли, а только от досады, объяснил ему причину драки, у него потемнело в глазах. Не помня себя от гнева, он начал сыпать удары (силы у него хватало) направо налево безо всякой пощады или жалости, называя мальчишек подлецами, не постеснявшимися напасть вчетвером на одного. Мало того, что он отделал их, как говорится, по первое число, он еще пригрозил им, что доложит о них директору. Если бы он это сделал, им пришлось бы понести очень суровое наказание. Но полученных тумаков оказалось достаточно, чтобы их утихомирить. После шумной возни в мастерской воцарилось тяжелое молчание. Я продолжал полоскать рот свежей водой, но кровь, которая текла из десны, никак не останавливалась. Все еще в душевном смятении я сказал отцу, что устал бороться с этим сбродом и предупредил его, что не сегодня-завтра может произойти несчастье. А затем, повернувшись к мальчишкам и глядя на них глазами, сверкающими от гнева, я вызывающе крикнул им, что их не боюсь, что по одному я отколочу каждого из них, включая самого сильного — того, который разбил мне рот. И прибавил, что в случае, если у меня останется шрам, я здорово отомщу. Да будет это им известно! Отец, уже хорошо знавший мой характер, услышал в этих словах реальную угрозу и велел мне замолчать.
Наступил вечер. Завыла сирена, и мальчишки, как полагалось, сбросили рабочие блузы и ушли из мастерской в вечернюю школу. Но не прошло и часу, как бегом примчался один из них, потихоньку сбежавший с урока. Он шепотом предупредил меня, чтобы я завтра не выходил на работу, так как самые отчаянные из пострадавших сегодня договорились между собой, чтобы завтра на всю жизнь изуродовать мне лицо. Я ответил: «Ладно. Это мы еще посмотрим». С такой колючкой в душе я запер мастерскую, и мы с отцом направились домой. По дороге я попросил отца ничего не говорить маме, чтобы не волновать ее. Тем временем рана уже начала затягиваться, и за ужином я объяснил маме, что поранился железным прутом. Поел я немного и быстро лег в постель. Но гнев, клокотавший во мне, не давал заснуть. Я никак не мог решить, что же мне делать завтра. Не пойти в мастерскую? Не выходить на работу? Это казалось мне унизительным. Смело встретиться снова лицом к лицу с моими противниками или, вернее, с врагами? Но разве можно было думать о защите от таких подонков, не будучи вооруженным? А если вооружиться, то чем же? Мысль об огнестрельном оружии была мною отброшена. И, наконец, в мучительном полусне у меня возник план.
Утром я поднялся с постели раньше обычного. Вышел из дома по чудесной прохладе. Проходя по площади дель Эзедра мимо киоска, где продавали кофе и ликеры, почувствовал необходимость выпить водки; заказал ни больше, ни меньше как стакан и выпил его залпом. Огонь ударил мне в желудок и в голову. Таким же образом я проглотил и второй стакан. Глаза у меня заблестели, но стали видеть как в тумане.
Придя в мастерскую, я взял железный прут толщиной в два сантиметра, отрезал кусок примерно в метр длиной и с величайшим спокойствием — не знаю, откуда только оно бралось — соорудил нечто вроде рукоятки, прилаженной таким образом, что она не могла ни сама вырваться у меня из рук, ни быть вырванной кем-нибудь со стороны. Покончив с ручкой, я — на случай, если придется пустить в ход устрашающее приспособление — заострил железный прут в виде маленького копья. Сделав это, я, в состоянии среднем между спокойствием и возбуждением, стал ждать прихода разнузданных бездельников. Наемные рабочие и в это утро были заняты вне мастерской. В самой мастерской оставался один Тарабо, рабочий лет сорока, человек дефективный, ярко выраженный тип идиота; к тому же он был заикой и в иные дни не мог произнести ясно ни одного слова. Часы во дворе пробили восемь, и сирена не замедлила завыть, призывая мальчишек на работу. Страшный час для меня наступил. Когда пятнадцать человековолчат, натянув рабочие блузы, бегом вкатились в мастерскую, я почувствовал, что кровь бросилась мне в голову и сердце в груди лихорадочно забилось. Два противоположных чувства боролись во мне: немалый страх перед сражением с этими чудовищами и непреодолимое желание защитить свое лицо от задуманного ими обезображивания. Победило желание отбиваться от них до конца, чего бы это ни стоило. Я ведь уже думал о том, что буду выступать на сцене перед многочисленной публикой и должен был во что бы то ни стало спасти свое лицо. В моем сознании возникли образы Фанфуллы и Фьерамоски, которых я знал из чтения воскресных приложений, и с этими образами перед глазами я ждал развития событий, стоя в углу мастерской у самого кузнечного горна, где в золе было спрятано мое оружие.