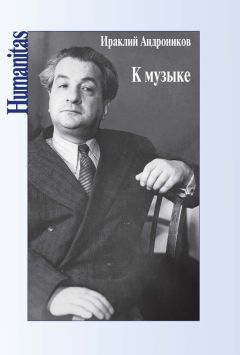Наступил вечер. Завыла сирена, и мальчишки, как полагалось, сбросили рабочие блузы и ушли из мастерской в вечернюю школу. Но не прошло и часу, как бегом примчался один из них, потихоньку сбежавший с урока. Он шепотом предупредил меня, чтобы я завтра не выходил на работу, так как самые отчаянные из пострадавших сегодня договорились между собой, чтобы завтра на всю жизнь изуродовать мне лицо. Я ответил: «Ладно. Это мы еще посмотрим». С такой колючкой в душе я запер мастерскую, и мы с отцом направились домой. По дороге я попросил отца ничего не говорить маме, чтобы не волновать ее. Тем временем рана уже начала затягиваться, и за ужином я объяснил маме, что поранился железным прутом. Поел я немного и быстро лег в постель. Но гнев, клокотавший во мне, не давал заснуть. Я никак не мог решить, что же мне делать завтра. Не пойти в мастерскую? Не выходить на работу? Это казалось мне унизительным. Смело встретиться снова лицом к лицу с моими противниками или, вернее, с врагами? Но разве можно было думать о защите от таких подонков, не будучи вооруженным? А если вооружиться, то чем же? Мысль об огнестрельном оружии была мною отброшена. И, наконец, в мучительном полусне у меня возник план.
Утром я поднялся с постели раньше обычного. Вышел из дома по чудесной прохладе. Проходя по площади дель Эзедра мимо киоска, где продавали кофе и ликеры, почувствовал необходимость выпить водки; заказал ни больше, ни меньше как стакан и выпил его залпом. Огонь ударил мне в желудок и в голову. Таким же образом я проглотил и второй стакан. Глаза у меня заблестели, но стали видеть как в тумане.
Придя в мастерскую, я взял железный прут толщиной в два сантиметра, отрезал кусок примерно в метр длиной и с величайшим спокойствием — не знаю, откуда только оно бралось — соорудил нечто вроде рукоятки, прилаженной таким образом, что она не могла ни сама вырваться у меня из рук, ни быть вырванной кем-нибудь со стороны. Покончив с ручкой, я — на случай, если придется пустить в ход устрашающее приспособление — заострил железный прут в виде маленького копья. Сделав это, я, в состоянии среднем между спокойствием и возбуждением, стал ждать прихода разнузданных бездельников. Наемные рабочие и в это утро были заняты вне мастерской. В самой мастерской оставался один Тарабо, рабочий лет сорока, человек дефективный, ярко выраженный тип идиота; к тому же он был заикой и в иные дни не мог произнести ясно ни одного слова. Часы во дворе пробили восемь, и сирена не замедлила завыть, призывая мальчишек на работу. Страшный час для меня наступил. Когда пятнадцать человековолчат, натянув рабочие блузы, бегом вкатились в мастерскую, я почувствовал, что кровь бросилась мне в голову и сердце в груди лихорадочно забилось. Два противоположных чувства боролись во мне: немалый страх перед сражением с этими чудовищами и непреодолимое желание защитить свое лицо от задуманного ими обезображивания. Победило желание отбиваться от них до конца, чего бы это ни стоило. Я ведь уже думал о том, что буду выступать на сцене перед многочисленной публикой и должен был во что бы то ни стало спасти свое лицо. В моем сознании возникли образы Фанфуллы и Фьерамоски, которых я знал из чтения воскресных приложений, и с этими образами перед глазами я ждал развития событий, стоя в углу мастерской у самого кузнечного горна, где в золе было спрятано мое оружие.
Как только мальчишки принялись за работу, самый сильный из них, тот, кому больше других досталось от моего отца, схватил одну из ручек напильника и собрался ударом молотка разрубить ее пополам. Я тотчас приказал ему прекратить преступную игру: в противном случае, сказал я, он за это здорово поплатится. Я еще не успел договорить, как он молниеносным прыжком бросился на меня и так страшно ударил меня по левой щеке, что на несколько секунд полностью вывел меня из строя. Может быть я на секунду даже потерял сознание, так как перестал чувствовать что бы то ни было. А потом я осознал только страшный звон в голове и у меня было такое ощущение, точно от чудовищного удара лопнула барабанная перепонка, и я больше никогда не смогу услышать музыку. Я прислонился к кузнечному горну, держа руку на кровоточащей щеке. Несчастный Тарабо, беспорядочно жестикулируя, издавал какое-то немыслимое блеяние. Он стремился прийти мне на помощь и уже двинулся в мою сторону, чтобы оказать поддержку, но это ему не удалось, так как один из четырех негодяев накинулся на него и повалил на землю. На мгновение в мастерской воцарилась мертвая тишина. Придя немного в себя после контузии, я сумел незаметно просунуть пальцы в рукоятку изготовленного мной оружия, после чего, повернувшись к тому, который меня ударил и стоял за несколько метров от меня в позе торжествующего победителя, я обозвал его вместе с четырьмя его дружками бандой незаконнорожденных мерзавцев и пригласил его, если у него хватит смелости, повторить свой подлый удар. Того, что произошло дальше, я не мог бы описать даже в общих чертах. Помню только, что едва негодяй размахнулся, чтобы ударить меня снова, я мгновенно вырвал свое оружие из золы и с такой силой треснул его по голове, что он, залившись кровью, как мертвый повалился на землю У моих ног. Тарабо, раздираемый ужасом и радостью, увидев этого преступника выведенным из строя, заорал нечеловеческим голосом, а затем разразился каким-то судорожным идиотическим хохотом. Самые скверные мальчишки, увидев, что я готов сразиться с каждым из них в отдельности, всей ватагой накинулись на меня, как взбесившиеся звери. Но я никому не дал спуску и не рассчитывал ударов, так что очень скоро оказался хозяином положения. Когда я смог остановиться и обозреть результаты моей расправы, то увидел, что попал решительно в каждого: кто получил по плечам, кто по рукам, кто по ногам. В общем они все оказались до того избитыми, что вид Их мог вызвать жалость даже у тех, кто вовсе не был расположен испытывать это чувство.
Чтобы не распространяться больше об этом неслыханном происшествии, скажу только, что дикие вопли Тарабо привлекли ко входу в мастерскую много рабочих из других цехов, и слух о происшедшем разнесся с молниеносной быстротой. В то время как раненых стали уводить в лазарет, в мастерскую ворвались многие приютские сторожа и воспитатели, а вскоре появился директор. Я стоял невозмутимо со своим железным прутом в руках и никому не давал к себе приблизиться. Я все еще был вне себя. Когда я увидел, как понесли на носилках того, которого я ранил в голову и который казался мертвым, не могу описать, что я пережил. Я подумал о матери и о всех своих близких, вспомнил сора Джулиано, и сора Ромоло, и сору Розу, которые считали меня таким хорошим и добрым и так меня любили... И я почувствовал, что силы оставляют меня. В эту минуту в мастерскую быстрым шагом вошел отец. Ему уже успели сообщить о происшедшем и, само собой разумеется, с самыми страшными преувеличениями. Он был так расстроен и так бледен, что, казалось, в нем не осталось ни кровинки. Когда он подошел ко мне, я безудержно расплакался, лепеча сквозь рыдания: «Я же тебе говорил!» Но он был больше всего озабочен и опечален мыслью о возможных последствиях.