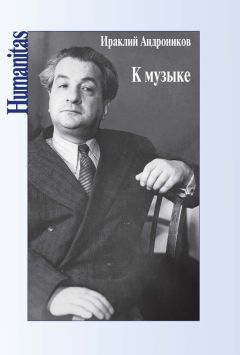Работы в мастерской было по-прежнему мало. Чтобы как-то сводить концы с концами, мы стали выделывать из железа всякие мелочи: подсвечники, цветы, пресс-папье. Мы выставляли их напоказ у дверей мастерской, и иногда нам удавалось продать кое-что за весьма приличную цену. Между тем, мама заболела тяжелой формой анемии, и в течение долгих недель мы были очень озабочены ее состоянием. К счастью, ее лечил замечательный врач, который, зная наше стесненное положение, принял близко к сердцу ее болезненное состояние. Неправда, что медики, как это принято считать, — люди бессердечные. И среди них есть такие, которые относятся к своей профессии, как к апостольскому служению; есть души глубоко бескорыстные, достойные самой высокой благодарности и почтения.
Роковая шаль. Подарки ко дню моего рождения. Армида — жена политического заключенного. Свидание. Признаюсь во всем маме. Все сильнее увлекаюсь. Романтическое, даже почти мистическое содержание моей страсти. Собеседование втроем. Все кончено. Я в отчаянии
Наступило 9 июня 1895 года. В этот день мне исполнилось восемнадцать лет. Как и всегда, я занимался своей работой в мастерской и, как всегда, мечтал о будущем. В тот день я закончил великолепный фонарь из кованого железа в стиле XVI века, точно такой, как фонари палаццо Строцци во Флоренции, только поменьше размером. Я употребил на это дело около двух месяцев и работал, не покладая рук, так как задался целью закончить фонарь именно к этому дню. Заплатить мне за него должны были при сдаче, а я в свою очередь рассчитывал заплатить из полученных денег за великолепную венецианскую черную шаль, вышитую цветами и с длинной бахромой, приобретенную мной неделю тому назад: я собирался подарить ее маме по случаю дня моего рождения.
В полдень, при сдаче, фонарь был мне аккуратнейшим образом оплачен, и я тотчас же побежал взять шаль у той дамы, которая мне ее продала... Она жила на третьем этаже в доме, где находилась моя мастерская. Однажды она в роскошной черной шали, накинутой на плечи, остановилась перед дверью мастерской, разглядывая выставленные на продажу сделанные мной вещицы. Я подошел к ней и спросил, не желает ли она что-нибудь приобрести. Она ответила, что уже не первый раз любуется моими работами, но не может позволить себе приобрести что бы то ни было, так как она вдова, одинокая и бедная. Тогда я предложил ей выбрать все, что ей понравится и взамен уступить мне свою шаль. Она поблагодарила, но сказала, что шаль — подарок ее покойного мужа, единственная оставшаяся у нее более или менее ценная вещь, и она давно ищет случая ее продать ввиду крайней необходимости. Я спросил, сколько она за нее хочет. Она смутилась, а затем, расхваливая свой товар, сообщила, что несколько времени тому назад молодая красавица, живущая на антресолях как раз над моей мастерской, предложила ей за шаль сто лир, но она от них отказалась, так как не находилась тогда в крайней нужде. Теперь же она отдала бы ее даже за девяносто, тем более, что, согласившись недавно на предложение молодой дамы, она прождала ее напрасно. Та не внесла денег в условленный срок и не пришла за шалью. Я согласился на условия вдовы, уже представляя себе шаль на плечах моей матери, и попросил задержать для меня приглянувшуюся мне вещь в течение недели. Милая дама пошла мне навстречу, и, таким образом, я в день своего рождения, взяв с собой часть денег, полученных за фонарь, смог привести в исполнение обусловленную заранее торговую сделку. Как сейчас помню печальное выражение лица бедной женщины, когда я отсчитывал ей на столике ее крошечной гостиной девяносто лир. Она никак не могла решиться передать мне шаль, как будто бы раскаиваясь в том, что продала ее. Казалось, она расстается с реликвией, с последней священной реликвией своей замужней жизни.
Мне стало ее до того жаль, что я посоветовал ей не торопиться, а еще некоторое время подумать. И тут же, без всякой задней мысли, а исключительно из деликатности предложил ей на десять лир больше обусловленной суммы. Тогда, поблагодарив меня, она наконец решилась...
Спускаясь по лестнице, я на полуэтаже, где были антресоли, встретил молодую женщину необыкновенной красоты. Увидев шаль, которую я нес накинутой на плечо, она остановилась и, дотронувшись до длинной бахромы, спросила, купил ли я ее у дамы с третьего этажа. Естественно, я тотчас подумал, что это и есть та молодая женщина, о которой говорила бедная вдова. Кстати, она тут же несколько бесцеремонно спросила, во сколько же обошлась мне моя покупка. Немного прилгнув, я ответил, что заплатил за шаль больше ста лир. Она казалась недовольной и объяснила мне, что шаль должна была несколько времени тому назад приобрести она, но что по непредвиденным обстоятельствам она не смогла своевременно внести обусловленной платы. Не скрою, что встреча с этой необыкновенной красавицей меня взбудоражила. У нее были огромные черные глаза; бело-розовый цвет кожи; маленький ротик; чудесные белые зубы; розовые, немного чувственные губы; густая черная коса, закрученная на затылке... Но к чему перечислять все эти особенности, ничего или почти ничего не говорящие читателю? И, может быть, читателю будет легче представить ее себе, если я скажу, что она очень напоминала Форнарину Рафаэля. Я не мог сдвинуться с места. Чтобы затеять разговор, я сообщил ей, что сегодня день моего рождения, что мне сегодня исполнилось восемнадцать и что шаль — подарок, который я по этому случаю преподношу матери, давно выражавшей желание обзавестись такой вещью. Затем я стал расхваливать доброту моей матери, заговорил о ее любви ко мне и о всяких других вещах, никак для нее не интересных. Тем не менее я заметил, что слушает она меня с удовольствием. Наш разговор грозил принять компрометирующий характер. Какой-то жилец, спускавшийся по лестнице, бросил на нас весьма многозначительный взгляд; она, к сожалению, смутилась. Но где же мне было найти силы прекратить разговор? Я глаз не мог оторвать от этого «ангела» и в беспредельной экзальтации имел смелость прошептать: «Боже, какая вы красавица! Я бы никогда не ушел отсюда. Простите мою смелость, но это правда...» Слова приходили сами собой с искренностью и легкостью, которым я не мог надивиться. Последовала короткая пауза. Она посмотрела мне в глаза не так, как смотрят на безразличного человека. Я протянул ей шаль и просил принять ее от меня в подарок. «Благодарю,— сказала она ласково,— но я не могу принять ее по двум причинам: прежде всего потому, что она предназначена для вашей матери, а затем потому, что я замужем, и когда вернется муж, я не смогу объяснить ему происхождение этой обновки». Я наконец ушел, извинившись за то, что так задержал ее. Уходя я назвал ей свое имя; она же умолчала о своем, но я понял, что мое сердечное волнение не оставило ее равнодушной. Вернувшись в мастерскую, я дал задания рабочим и, предупредив, что вернусь с обеда позднее обычного, направился домой.