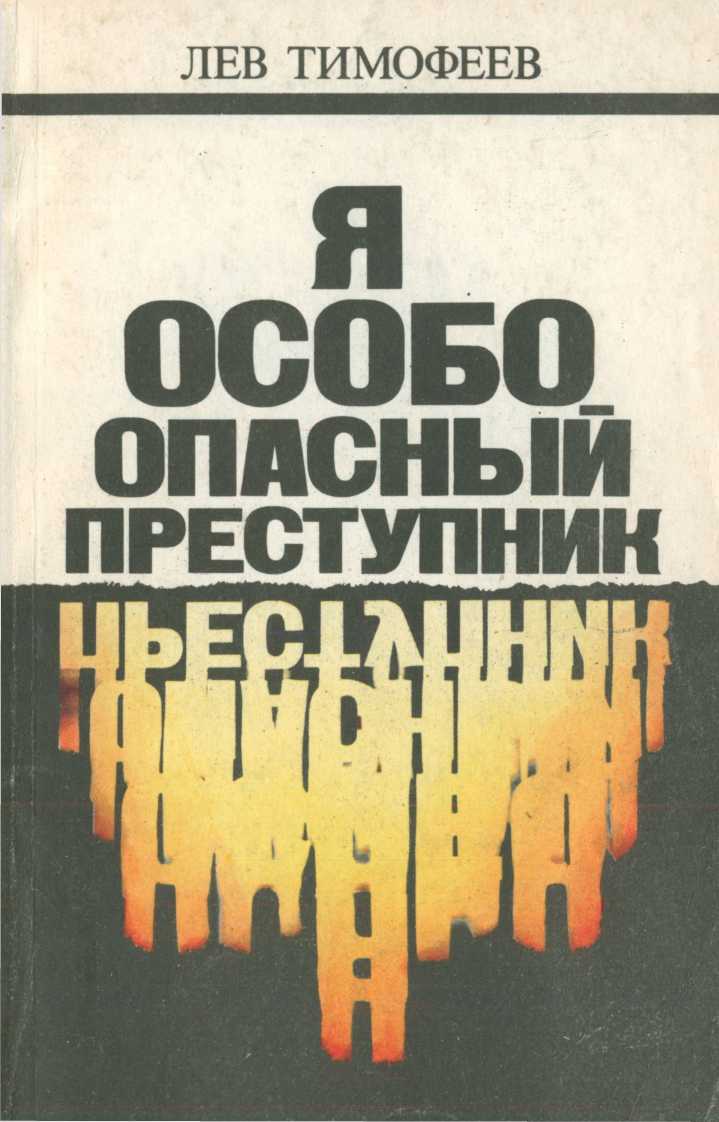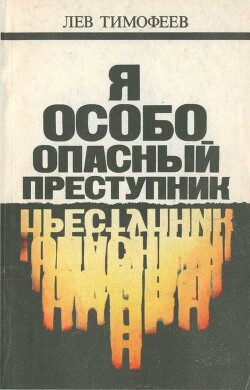сказать им: «Доброе утро!» Надо отойти в сторонку и прочитать молитву.
Надо жить. Надо выжить…
В лагере не было голодно. Но пища была грубая, тяжелая, однообразная — каши да каши да капуста. Свежего, витаминного — ничего. И поэтому с первой весной, с первой травкой начиналась охота за витаминами. Лучше всего в ход шла крапива — ее на зоне было довольно много по подзаборным окраинам… Но тоже ведь все становится проблемой.
Чтобы нарвать крапивы, нужно время — хоть пять минут. А когда? Если ты на промзоне в цехе за станком работаешь, то в рабочее время не уйдешь, менты заметят, составят акт о нарушении — либо ларька лишат, либо очередного свидания, либо наберут три-четыре акта и в карцер посадят… Так когда же за крапивой? Если начался перерыв на обед — все. Построились и пошли… Значит, все-таки надо как-то исхитриться, чтобы в рабочее время незаметно, когда мент отлучился, рискуя, выскочить да в дальний угол промзоны смотаться, да нарвать свежих верхушечных листьев — в носовой' платок завернуть да в карман спрятать, а лучше в тот же платок да в сапог, чтобы на шмоне по выходе с промзоны не отобрали — в сапоги все же не каждый раз залезают.
Если все это удалось, если горстка крапивных листьев в платке — тут тоже свои заботы начинаются: при съеме на обед вставай в строй первым — надо успеть пораньше до барака добежать и за те пять минут, что до звонка на обед остаются, успеть кипятком из титана крапиву ошпарить, обжигаясь, тут же ее порезать, в кружку сложить, — тут и сигнал на обед. Но крапива уже готова — ароматная, крепкая зелень — хочешь, в суп клади, а хочешь, со вторым, где каша да два-три крошечных кусочка мяса, как йве-три строгалинки от бефстроганов…
Ели мы и цветы одуванчиков. Просто срывали головки и жевали. Они сладкие и нежные.
Пытался я как-то сделать салат — из подорожника, мать-и-мачехи, листьев одуванчика и крапивы. Было не то, чтобы очень вкусно, трава есть трава — но зато зелено и свежо… Но больше я такой салат не делал, потому что оказался он очень сильным биостимулятором. А в лагере тоже не всякую энергию стимулировать надо.
Ближе к осени удавалось иногда набрать горсть рябины — хотя то, что на ветках, раньше нас птицы оклевывали. Нам же доставалось уже то, что на земле, в траву осыпалось. Ничего, горсть наберешь, помоешь — сладость!
Были в зоне и грибы. В одном месте промзоны рядовки кдкие-то, в другом, недалеко от столовой, можно было молодых навозников набрать, в третьем, возле ментовской дежурки, луговых опят. Но грибов, понятно, было совсем немного — за лето раза три удавалось нам небольшую кастрюльку потушить — мы их тушили с луком и заливали разведенными в кипятке плавленными сырками, когда они случались в лагерном ларьке…
Вообще-то рассказывать обо всем об этом немного неловко — нам со всякой крапивой и грибами сильно повезло — на других зонах ничего этого нет: голая земля, асфальт. У нас же зона была небольшая, но довольно зеленая — десятка, наверное, три или четыре деревьев, много травы, которую осенью мы, зэки, косили после основной работы на производстве — в порядке работ «по благоустройству территории». Куда шло сено — неизвестно, куда-то его за зону увозили.
Но была в зоне и своя живность:, на отдельной территории, за особым забором — небольшой свинарник голов на пятьдесят. Хозяйничал тут литовец Генрих Яшкунас — человек, фанатично преданный, всякой живой твари (он был «истинный» марксист, уже многолетний зэк — и не по первому сроку! — сидевший за то, что обличал правящих марксистов как «неистинных»). Преданность Яшкунаса делу (не марксизму, а свинарнику) постоянно создавала какую-то напряженную атмосферу вокруг свинофермы. Дело в том, что обычному зэку на свиней решительно наплевать — хоть они все передохни, — тем более, что мясо шло за зону на ментовское потребление. И бывало, у работящего Яшкунаса с ленивыми помощниками доходило чуть не до драки…
Работа на свинарнике, со стороны-то глядя, и мне нравилась, и когда пошел слух, что Яшкунаса увозят, — его срок уже к концу шел, — я начал интригу через тогдашнего очередного яшкунасова помощника — чтобы он сказал по начальству, что вот-де есть человек, который не прочь… Но интрига была грубо пресечена: уполномоченный КГБ, мордатый мужик с тонким бабьим голосом и бабьей же задницей — фактический безоговорочный начальник зоны, перед которым и майор-начальник вытягивался и честь отдавал, а прапорщики и вовсе деревенели, — вот этот вот самый уполномоченный, без которого ничья судьба в лагере не решалась, сказал тому моему ходатаю, что меня на ферму пускать нельзя. «Этот писатель, — сказал он, не скрывая своего презрения, — выйдет из зоны и начнет мемуары писать». Как же они там с этой фермы воровали, если он боялся и через много лет (да еще выживу ли!) каких-то разоблачений.
Все-таки слово — великая сила! Вон как в страх-то вгоняет. Но и страдать за него приходится — не попал я на ферму, куда и шел только потому, что там, за тем же заборчиком, еще и тепличка была, да и вообще было это место чуть подальше от ментовского глаза, а значит, летом можно было бы и грядку свою вскопать и посадить что-нибудь, — у человека, державшего тепличку, и семена были… Ничего, заел я эту свою беду горстью рябины, да и забыл про нее. Тем более, что скоро меня и раз посадили в карцер, и другой, и третий, а еще раньше и длительного, трехдневного свидания с семьей лишили — и пошли прессовать по всем здешним правилам, а там и вовсе на четыре месяца упрятали в ПКТ (помещение камерного типа — читай: внутрилагерная тюрьма) — и вышел я зимой оттуда «тонкий, звонкий и прозрачный», и сил уже не было на свинарнике работать, хоть бы и поставили…
Но нет, все равно надо было каждое утро вставать на зарядку. Обтираться холодной водой. Улыбаться товарищам. И ждать весны, чтобы сорвать первый пучок крапивы.
В лагере надо жить. Надо выжить.
2 апреля 1986 года. Письмо из зоны
Сонюшка родная, девочки мои любимые — и маленькие, и старенькие. Письма ваши — не знаю, все ли, — но получаю регулярно. Меня они и огорчают, и радуют. По письмам чувствую, что хоть и тяжело вам приходится, но ничего, тянете. Так ли? Как там бабушка Лена справляется — дай ей Бог силы