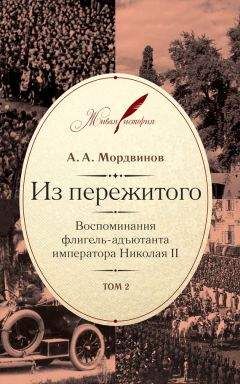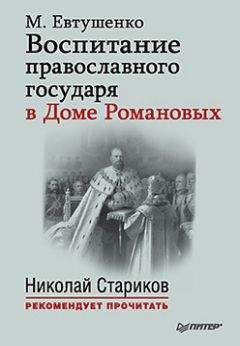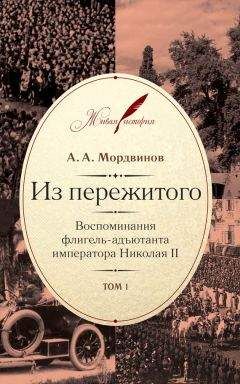Нарышкин отправился и скоро вернулся, но с пустыми руками.
Он нам передал, что одна телеграмма, Родзянке, хотя и начала уже отправляться, но начальник телеграфа обещал попытаться ее задержать, а другую, в Ставку, и совсем не отправлять, но что Рузский их ему все же не отдал и сам пошел к государю, чтобы просить удержать эти телеграммы у себя, хотя и обещал их не отправлять до приезда Гучкова и Шульгина.
Вскоре появился действительно Рузский и был снова принят государем, но оставался там очень недолго.
Уходя от Его Величества, Рузский передал скороходу, чтобы прибывающих вечером депутатов направили предварительно к нему, а затем уж допустили их до приема государем.
Это обстоятельство взволновало нас еще более; в желании Рузского настоять на отречении и не выпускать этого дела из своих рук, как нам казалось тогда, не было уже сомнения.
Мы вновь пошли к Фредериксу просить настоять перед Его Величеством о возвращении этих телеграмм, а профессор Федоров, по собственной инициативе, как врач, озабоченный особенной бледностью и видимым недомоганием государя, направился к Его Величеству.
Было около 4 часов дня, когда Сергей Петрович вернулся обратно в свое купе, где большинство из нас его ожидало.
– Вышла перемена, – сказал он нам, – все равно прежних телеграмм теперь нельзя посылать. Я во время разговора о поразивших нас всех событиях, – пояснил он, – спросил у государя: «Разве, Ваше Величество, вы полагаете, что Алексея Николаевича оставят при вас и после отречения?»
– А отчего же нет? – с некоторым удивлением спросил государь. – Он еще ребенок и, естественно, должен оставаться в своей семье, пока не станет взрослым; до тех пор будет регентом мой брат.
– Нет, Ваше Величество, – ответил Федоров, – вряд ли будет это возможно, и по всему видно, что надеяться на это вам совершенно нельзя.
Государь, по словам Федорова, немного задумался и спросил:
– Скажите, Сергей Петрович, откровенно, как вы находите, действительно ли болезнь Алексея такая неизлечимая?
– Ваше Величество, наша наука нам говорит, что болезнь эта неизлечима, но многие достигают при ней значительного возраста, хотя здоровье Алексея Николаевича будет всегда зависеть от всякого случая.
– Когда так, – как бы про себя сказал государь, – то я не могу расстаться с Алексеем, это было бы уже сверх моих сил. К тому же, раз его здоровье не позволяет, то я тем более буду иметь право оставить его при себе…
Кажется, на этих словах рассказа, потому что других я не запомнил, вошел к нам в купе граф Фредерикс, сходивший во время нашего разговора к государю, и сообщил, что Его Величество приказал потребовать сейчас же от Рузского задержанную им у себя телеграмму (кажется, Родзянке), не упоминая ему при этом, для какой именно цели.
Кира Нарышкин отправился вновь, но и на этот раз не принес их обратно, а только вместо них какую-то телеграмму о новых ужасах, творящихся в Петрограде, которую дал Рузский для доклада государю.
Телеграммы те об отречении Рузский сказал, что отнесет сам лично Его Величеству.
Я не помню, что было в этой, данной нам, вероятно, для назидания телеграмме, так как вошедший скороход доложил, что государь после короткой прогулки около вагонов уже вернулся в столовую для дневного чая, и мы все направились туда.
С непередаваемым тягостным чувством, облегчавшимся все же мыслью о возможности еще и другого решения, входил я в столовую.
Мне было физически больно увидеть моего любимого государя после его нравственной пытки, вызвавшей его решение, но я все же надеялся, что обычная сдержанность и ничтожные разговоры о посторонних, столь «никчемных» теперь вещах прорвутся наконец у нас, в эти ужасные минуты, чем-нибудь горячим, искренним, заботливым, дающим возможность сообща обсудить положение; что теперь, в столовой, когда никого, кроме ближайшей свиты, не было, государь невольно и сам упомянет об обстоятельствах, вызвавших его столь поспешное решение.
Эти подробности нам были совершенно неизвестны и так поэтому непонятны. Мы к ним были не только не подготовлены, но не могли, конечно, о них даже догадываться, и только, может быть, граф Фредерикс, а также и В. Н. Воейков, хотя вряд ли, были более или менее осведомлены, о чем шла речь в переговорах Рузского с государем.
Нас, по обычаю, продолжали держать в полной неизвестности и, вероятно, по привычке же даже и на этот раз забыли о нашем существовании.
А мы были такие же русские, жили тут же рядом, под одной кровлей вагона, и также могли волноваться, страдать и мучиться не только за себя, как «пустые и в большинстве эгоистичные люди», но и за нашего государя и за нашу дорогую Россию.
Но войдя в столовую и сев на незанятое место с краю нашего небольшого стола, я сейчас же почувствовал, что и этот час нашего обычного, более или менее непринужденного общения с государем пройдет точно так же, как и подобные же часы минувших «обыкновенных» дней… Опять шел самый незначительный разговор, прерывавшийся на этот раз только более продолжительными паузами.
Рядом была буфетная, кругом ходили лакеи, подавая чай, и, быть может, их присутствие заставляло всех быть такими же «обычными» по наружности, как всегда.
Государь сидел на вид спокойный, ровный, поддерживал разговор, и только по его глазам, теперь уже совсем печальным, задумчивым, на чем-то сосредоточенным, да по нервному движению, когда он доставал папиросу, можно было чувствовать, что переживал он в самом себе.
Ни одного слова, ни одного намека на то, что всех нас волновало, не было, да, пожалуй, и не могло быть произнесено – такая обстановка заставляла лишь уходить в себя, несправедливо негодовать на других «зачем говорят о пустяках» и мучительно думать: «Когда же кончится это сидение за чаем!»
Оно наконец кончилось; государь встал и удалился к себе в вагон. Проходя вслед за ним, последним, по коридору, мимо открытой двери кабинета, куда вошел государь, я помню, меня так и потянуло войти туда, но находившийся впереди меня граф Фредерикс (или Воейков) уже вошел туда раньше с каким-то совсем, как я раздраженно подумал, ненужным докладом. Мы все собрались снова вместе, на этот раз в купе у адмирала Нилова. Старый адмирал был очень удручен и почти все время не покидал своего отделения.
В. Н. Воейков был также с нами. Он был, как чувствовалось, не менее нас взволнован, но умел лучше нас скрывать свое волнение и свои переживания. От него или от Нарышкина мы наконец узнали, что Родзянко ночью в переговорах с Рузским сообщил ему, что он потому не приехал в Псков, так как высланные государем с фронта эшелоны якобы взбунтовались в Луге и никого не пропускают.