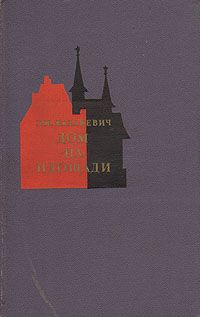Зиновьев раздраженно рассмеялся.
– Правда правде рознь, – сказал он. – Нельзя доходить до наивности. Я помню, в апреле, сразу после приезда, вы в своей речи в Таврическом дворце сказали, что у вас еще неполное представление о событиях, так как вы успели поговорить только с одним рабочим. Это заявление вызвало гомерический смех среди меньшевиков и порядочный конфуз среди наших товарищей…
– Прекрасно. Я так сказал с умыслом. Я сказал так, потому что это правда. Зато когда я в следующий раз сказал, что встречался с многочисленными рабочими Путиловского, Трубочного и других заводов и хорошо знаю их настроение, – мне все поверили… Не дай бог дожить нашей партии до того, чтобы ее политика делалась втайне, где-то наверху, келейно, – мы-де умные, мы знаем всю правду, а массам будем говорить полправды, четверть, осьмушку правды…
– Все это очень мило, но ведь вы теперь, в условиях разгрома и разброда, не устаете призывать к вооруженному восстанию, к взятию власти пролетариатом вопреки всей расстановке сил в стране… Это – витание в облаках!
– Ах, вот оно в чем дело! Вы боитесь ответственных решений!
– Я боюсь безответственных.
– Вы боитесь того, к чему мы оба стремились всю жизнь, о чем мы писали, о чем мечтали, – пролетарской революции.
– Я боюсь вооруженной вспышки при невыгодных условиях, революции, обреченной на поражение. Мы можем потерять все.
– Все нельзя потерять. Все могут потерять отдельные лица – Ульянов, Зиновьев, Крупская, Лилина. Пролетариат не может потерять все. В одном известном вам сочинении сказано, что он ничего не может потерять, кроме своих цепей. А совершенно идеальных условий, без всякого риска, для революции не бывает… Ваши слова напомнили мне внешне простодушное, но, по сути, очень тонкое замечание старика Тацита об одном римском заговорщике, кажется, о Пизоне[41]: «Его удерживало желание безнаказанности, всегда служащее препятствием для важных предприятий». Вы кажетесь мне, Григорий, похожим на этого – гм, гм – робкого римлянина. Совершать важные предприятия при гарантии безнаказанности невозможно.
– Вы, если не ошибаюсь, обвиняете меня в трусости? Мне кажется, вы достаточно хорошо меня знаете…
– Дело тут не в личной трусости…
– Посмотрите, что делается в армии! Темные солдаты на митингах голосуют против «ленинцев-провокаторов»…
– Вот-вот! Они голосуют против «ленинцев-провокаторов» и тут же требуют мира и земли – то есть того же самого, что требуют «ленинцы-провокаторы». Все очень просто. Мы выражаем коренные интересы масс, и с этим ничего не смогут поделать Милюков и Керенский.
– Коренные интересы масс выражали многие партии, потерпевшие тем не менее поражение. То, что вы говорите, – философия, а не политика.
Глаза Ленина вспыхнули, но он сдержал себя и сказал спокойно, даже поначалу шутливо:
– Еще Платон говорил[42], что если в государствах не будут властвовать философы или если властители не научатся быть философами и государственная власть и философия не совпадут воедино, то ни для государства, ни вообще для рода человеческого невозможен конец злу. Когда мы возьмем власть в свои руки, – а это будет скоро… Вы напрасно пожимаете плечами, Григорий… Когда мы возьмем власть в свои руки, наша власть будет основываться на марксистской философии, и если мы будем ее держаться не на словах, а на деле, вовлекая в строительство массы, их творчество, их разум, то построим новое общество без серьезных ошибок.
– Но я боюсь, что вы как раз отрываетесь от масс, вы забегаете вперед, вы нетерпеливы, вас надо держать за фалды… Нам следует теперь маневрировать и ждать.
Ленин, шагавший все время взад и вперед, при этих словах Зиновьева остановился и круто повернулся к нему:
– Ждать? А кто еще так умеет ждать, как мы, русские марксисты? Разве мы мало ждали? Разве, овладев научным социализмом, выстрадав его, поверив в рабочий класс и его победу, мы не научились ждать так, как никто никогда не умел? Разве мы не подавляли в себе приступов ненависти и отчаяния, инстинктивного, вполне человеческого при виде несправедливости и подлости врагов, позыва к терроризму, к немедленным действиям – подавляли потому, что знали, как важно, работая, собирая силы, убеждая, веря, уметь ждать? Разве даже в Апрельских тезисах, вначале воспринятых многими у нас в партии как самое крайнее бунтарство, ушкуйничество, анархизм, бланкизм, я не признал главной задачей «разъяснение» – то есть опять-таки, указав направление работы, не призвал ждать? Каменев тогда, как вы помните, даже критиковал меня «слева», утверждая, что «разъяснение», дескать, не политика; вести политику, по его мнению, значит плести политические комбинации, интриги с другими партиями, блокироваться и деблокироваться, витийствовать на парламентской трибуне! Разве, наконец, во время июльских событий и после них я не настаивал – хотя и недооценив, быть может, революционного настроения масс, – на немедленном прекращении выступления, на превращении его в мирную демонстрацию? Это ли значит не уметь ждать? Но бывают моменты, когда ждать – преступление. Такой момент может скоро наступить, он, несомненно, скоро наступит, и если мы и тогда уклонимся от немедленного действия, то мы окажемся дюжинными мелкобуржуазными социалистами, болтунами и фразерами, и рабочий класс отвернется от нас. Если мы и тогда будем ждать, если и тогда не предадим проклятию «терпение», как некогда Фауст[43], – мы трусы и ничтожества, и история нам никогда этого не простит.
Зиновьев затих, потрясенный трагическим пафосом, так непривычно прозвучавшим в устах Ленина. Затем он в отчаянии воскликнул:
– Но вы понимаете, что значит взятие власти теперь, в нынешний момент, в нынешней России?
– Понимаю ли я? – переспросил Ленин, неожиданно успокаиваясь и окидывая лицо Зиновьева долгим взглядом. – Хорошо понимаю. Я об этом предмете думал днем и ночью, так что голова пухла. «Нынешняя Россия», говорите вы. Для того, чтобы создать Россию будущую, надо сделать революцию в России нынешней – другого пути нет. Да, темнота. Да, лапотность. Да, дикость. Что ж, взяв власть, мы сможем искоренить эти мрачные черты российской действительности вдвое, вдесятеро, в сто раз быстрее. Да, наши рабочие сплошь да рядом недостаточно культурны, недостаточно просвещенны по сравнению с западными… Это усугубляет наши трудности. Однако это имеет и свои положительные стороны: русские рабочие не отравлены повседневной, превосходно организованной на Западе, растлевающей душу буржуазной пропагандой собственничества, страсти к наживе, к мещанскому благополучию. В сердцах наших рабочих пылает великая ненависть к эксплуататорам. А такая ненависть есть поистине «начало всякой премудрости», основа всякого революционного действия… – Помолчав, Ленин добавил сухо: – Впрочем, у нас есть партия, есть ЦК, и они примут решение в нужный момент.