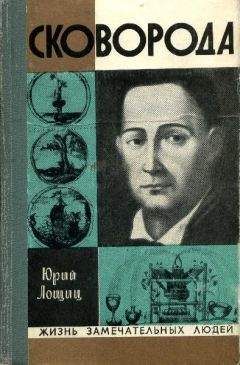Тут как раз можно было ему припомнить и пресловутую свою басню о волке-музыканте Вот посмеялись бы его бывшие школяры пииты, узнав, что и учитель их тоже вдруг оказался не у дел!
Так на тридцать восьмом году жизни он снова оказался без определенных видов на будущее. И в который раз! Тут уж давала знать о себе очевидная закономерность. Что-то было неблагополучно то ли в нем самом, то ли в окружающих обстоятельствах. Иначе отчего бы так круто метало его с, мне га на место?
Уж не сам ли и виноват и во всех своих неурядицах? слишком строптив, не по возрасту взбалмошен, не по чину горд. А гордыня-то, Григорий Саввич, грех великий!
После размолвки с Гервасием Якубовичем бывший учитель пиитики обосновался в окрестностях Белгорода, зазванный в гости помещиком из села Старица. «Старица, — пишет биограф, — было место изобильное лесами, водоточами, удолмими, благоприятствующими глубокому уединению».
Что же, снова возвращается ветер на круги своя?
Нам может показаться странным, что многими людьми позапрошлого иска различие городской и деревенской жизни ощущалось так же, остро, как в наши дни. Что тогда, думается, были на города? Тихие, патриархальные заводи. Но почему-то и в них далеко не каждому было по себе — и это осознавалось не только людьми избранными. К примеру, про Харьков XVIII века известно, что с наступлением летних жар жизнь в нем, как правило, замирала. Утомленные духотой и пылью горожане устремлялись на пасеки и левады. Ощущение, что связи человека с природой уже недостаточно полны, озадачивало многих.
Сковороду жизнь среди природы, как мы знаем, привлекала чем-то более глубинным, нежели заботы о свежем воздухе и натуральной пище.
Для него природа прежде всего была цельным существом, отчетливым оттиском бытийного творчества. И он вновь погрузился в благословенную зеленую тишину, теряясь в её тенистых глубинах.
Впрочем, живя в Старице, он вовсе не держался отшельником. О нем уже знали в округе. Многим хотелось посмотреть на человека, который певал некогда для самой императрицы, а теперь обретается в соседнем имении, — посмотреть и хоть парой слов перекинуться с этим, говорят, грамотеем из грамотеев, а к тому же и оригиналом, позволяющим себе роскошь на каждом шагу отказываться от того, что само в руки просится.
Дожил он здесь остаток лета. Здесь же, как мы предполагаем, провел всю осень и встретил новый, 1761 год. Что мог он загадывать себе на будущее? Кажется, ничего определенного. А между тем новый год уже готовил для Сковороды событие, едва ли не из самых значительных в его жизни.
Среди новых знакомых, которые появились у него в эти месяцы, был некто отец Петр, протоиерей. Однажды, беседуя с отцом Петром, Сковорода высказался примерно в том духе, что вот хотя и хороша безсуетная сельская жизнь, а иногда не из грусти вспоминаются ему харьковские друзья и лекции, к которым он готовился, как домовитая хозяйка к великому святу. На что собеседник ответил сочувствием и прибавил, между прочим, что и он о жизни училищной несколько осведомлен, поскольку там теперь проходит курс наук его племянник, отрок Михаил.
Сковорода вскоре не удержался все-таки от удовольствия повидаться с харьковскими приятелями. Прожил он в городе неделю, прожил другую, а в коллегиум все, однако, не наведывался, все обходил его стороной. У них там свои заботы, свое течение жизни. Что он теперь для них? Тень человеческая — и только. В лучшем случае, увидев его, они удивятся немножко, немножко посуетятся и похлопочут вокруг, но и тут же снова отвлекутся по своим обычным делам.
И это в лучшем случае, а то еще пойдут унылые расспросы, вздохи по поводу нынешней его неустроенности, сочувственные взгляды, покачивания головой, будто совсем уж он пропащий человек.
А вышло все не так! В аудиторном корпусе буквально навалились на него студенты — прошлогодние пииты и из других классов. Сколько знакомых веселых лиц! И новенькие, те, что никогда его прежде не видели, теперь тоже улыбались, глядя, как «старички» дружно приветствуют бывшего наставника, знаменитого Сковороду, и упрашивают его вернуться в школу.
Как от пчел отмахивался от них довольный Григорий Саввич. Тут как раз вспомнилась ему беседа в Старице с отцом Петром, и он спросил у ребят, а нет ли случайно в их куче-мале Ковалевского Михаила.
— Ковалевский?! Да вот же он!
И стали выталкивать вперед застенчивого подростка. Тот упирался локтями и краснел, как маков цвет. А когда все-таки вытолкнули его, прыснул в кулак и зарделся еще сильней.
Сковорода улыбнулся. Какое веселое, открытое, чистое лицо!
Через тридцать четыре года, вспоминая прожитое, Михаил Иванович Ковалинский так описал эту незабываемую для него минуту: «Сковорода, посмотря на него, возлюбил его, и полюбил до самой смерти».
«Когда я в обычный час выходил из училища и подумал о том, какая мне сегодня предстоит работа, сразу же перед моим взором предстал человек, которого, я думаю, ты знаешь. Как его зовут? Михаилом зовут! Вот ведь какая новость — неожиданно ты стал являться мне, моей душе. Когда я встречаюсь со своими музами, то тут же и ты у меня на уме, и мне кажется, мы вместе наслаждаемся дарами Камеи, вместе шествуем по Геликону. Право же, для полной и истинной дружбы, которая так чудесно может оживить человека к новой жизни и сгладить ее острые углы, дли такой дружбы, оказывается, необходимы не только взаимная чистота помыслов и сродность душ, но еще и сходство занятий… Но признаюсь в своей к тебе благорасположенности: тебя бы я все равно любил, даже если бы ты был совсем чужд нашим музам. Я любил бы тебя за ясность твоей души, за твои порывы ко всему достойному, — не говоря уж про остальное, любил бы, будь ты сама простота, никогда не видавшая, как говорится, аза в глаза. Теперь же, когда я вижу, как ты вместе со мной увлекся греками (стоит ли тебе объяснять, как высоко я их ставлю) и литературою римлян, которая, если отрешиться от ее вульгаризмов и площадных шуточек, в остальном служит только прекрасному и полезному, — когда я вижу все это, то в душе моей утверждается такая любовь к тебе, которая с каждым днем прибывает и крепнет, и для меня уже нет в жизни ничего более необходимого, чем видеться и говорить с тобой и такими, как ты».
«Ты сегодня не пришел в школу, и я страшно скучал по тебе. Хоть бы не подтвердилось то, что я подозреваю! Боюсь, не захворал ли ты, спаси боже, дни-то стоят нездоровые… Прошу, как можно скорей сообщи, что с тобой…»
«Ты меня вчера спросил, когда выходили из храма, почему я улыбнулся и как бы смехом своим тебя приветил… Ты спросил, а я не назвал тебе причину, да и теперь не скажу. Скажу лишь, что смеяться можно было и тогда, можно и теперь. Улыбаясь, я пишу это письмо, и ты, я думаю, читаешь его с улыбкой, и когда мы снова увидимся, боюсь, что ты не сдержишь улыбки. О мудрец мой, ты спрашиваешь… почему я был так весел вчера. Слушай же: потому что я вчера встретился глазами с твоим радостным взором, и я, радуясь, радостью приветствовал того, кто радуется. Если же тебе эта причина моей радости покажется недостаточной, я прибегну к иному средству. Я тебя поражу том же оружием, спросив, почему и сам ты третьего дни приветствовал меня в храме улыбкой? А, мудрец мой, что скажешь? Я ведь от тебя не отстану… И всегда-то радуюсь я и улыбаюсь, лишь доведется свидеться с тобой. Потому что какой же чурбан не взглянет с радостью на счастливого человека и при этом — друга?!»