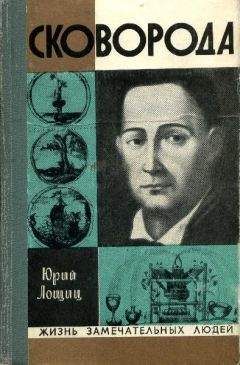Потекли, училищные будни. Звонки с урока, звонки на урок, ежеднневные обязательные маршруты по затопленным осенней грязью улицам: тут и там завязшие в месиве колымаги, хмурые лица обывателей, пьяный ор у питейных домов, расползшееся на грязные лоскутья небо, даже бездомный пес по перебежит дорогу… А для него каждый день. — праздник! Сегодня он увидит своего Михаила, будет разговаривать с ним — целую речь уже заготовил в пути, пока шлепал по грязи чоботами, бормоча про себя и улыбаясь.
Все те нерастраченные, томящиеся под спудом запасы знаний, а главное, радости, восторженности, детской какой-то доверчивости и любви, которые накопил он за долгие годы мытарств, во время затяжных размышлений наедине, когда и поделиться то по настоящему было не с кем, все это начало теперь исходить из него, и он ощущал себя как бы в незримом тепловом облаке.
Годами ведь, он неустанно искал и не обретал души, которую можно было бы сполна одарить собственными приобретениями. «Истинно достойный человек, — думал с грустной усмешкой, встречается реже, чем белая ворона. Сколько диогеновых фонарей понадобится, чтоб его сыскать!»
А вот же встретил такую душу! Да, мальчик еще неопытен, еще нетвердо стоит на ногах, еще часто, должно быть, будет он срываться. Но какая внутренняя чистота, какая внимательность светятся в умных глазах!
И стоит ли вообще обращать внимание на то, что они возрастом и знанием жизни неровня? Двух равных и вообще не сыскать в целом свете. Неравное всем равенство.
Как почти всегда бывает с увлекающимися натурами, любовь здесь решительно идеализировала свой предмет: Михаил во многих отношениях был просто не готов к тому, что происходило. По собственному признанию, Ковалинский в это время еще «и не смел мыслить, чтоб мог быть достойным дружбы его, хотя любил и удивлялся философской жизни ого и внутренне почитал его».
Подростка сковывали и разница І» возрасте, весьма значительная, и несоответствие опыта, столь ошеломительное, и, как стало постепенно выясняться, еще многое-многое другое. Он и хотел бы ответить чем-то достойным на энтузиазм своего воспитателя, да не находил, чем и как.
Все это было для него как снежный ком на голову. Ведь Сковорода так не похож на остальных учителей, так до странности запальчив и темен в косноязычных своих речах!
С детства Михаилу внушалось, что родился он для счастливой и благодатной доли и что таков уж его жребий здесь, на земле, — не испытывать тягостной нужды, но во всем насущном и желаемом иметь избыток. И в училище часто слышал он от взрослых и сверстников, что учение важно не само по себе а опять, же для того, чтобы шире распахивалась перед молодыми людьми дорога к житейским благам. И он уже привык к тому, что так с ним должно произойти и так все устроится.
И вот стоял перед ним человек, жизнь которого была прямым вызовом и укором его представлениям и мечтам. Он был учен, головокружительно учен, но и он же был почти нищ. И не то чтобы ему не повезло в жизни и он томился своими неудачами. Нет, он, кажется, ко всему остальному еще доволен своей нищетой, тем, что получает ничтожное жалованье и снимает угол в накренившейся мазанке.
Этого Михаил не мог понять. Когда же попытался, робея и сбиваясь, высказать свое недоумение по поводу подобного образа жизни, учитель ответил бурной речью, из которой явствовало, что об истинном счастье молодой человек не имеет совершенно никакого положительного понятия, потому что оно, счастье истинное, ничего общего не имеет с многоядением и вожделением прочих благ, а, наоборот, состоит в добровольном и радостном отвержении земных прихотей, желаний и удовольствий во имя высшего и совершенного блага. Михаил остался в недоумении: что же это за странное счастье такое — ото всего отказываться? Может быть, надо попробовать всего понемножку, а потом уж и отказаться? Ведь сам-то Сковорода тоже но сразу отказался ото всего, если судить хотя бы по его воспоминаниям о придворной капелле…
Как водится, объявились и советчики, у которых исключительное в своем роде попечение Сковороды о Коваленском вызвало раздражение и ревность. Чему там учит тебя этот выскочка, эта много о себе возомнившая деревенщина? Он и сам без царя в голове, и тебе голову замутит. Сковорода глотает все подряд, без разбора, для него, слыхать, Христос и Эпикур — одно и то же. Для него и темные египетские жрецы — православные люди. С таким поводырем забредешь в какие-нибудь непролазные непроходимости!.. Отчего он с нищетой своей носится как с писаной торбой? Да оттого, что неудачник и ханжа. Из юродства же и мяса не потребляет — яко сущий манихей!
Замечая внутреннее беспокойство ученика, неумело скрываемую настороженность и недоверчивость, учитель недоумевал: «Что же грызет тебя? Может, то, что ты не участвуешь в шумных застольях бражников? Или то, что в пышных дворцах не играешь в кости? Что не скачешь под музыку? Что не щеголяешь в военном мундире с пестрыми бляшками? Кит псе, эти ничтожные вещи тебя приманивают, то ты еще в скопище черни, а не среди мудрецов. Коли ожидаешь благ извне, то о блаженстве твоем можно лишь сожалеть. Не то, не так! Собери внутри себя все свои мысли и там, в самом себе, ищи истинных благ».
Мы не знаем, кто именно были те люди, которые выставляли себя перед Михаилом истинными друзьями и исподволь чернили Григория Саввича. О том, насколько опасен нераспознанный льстец, он пишет Михаилу неоднократно. А если юношу не убеждает его собственное мнение, то вот, пожалуйста, пусть почитает, как о льстецах говорил Плутарх; уж тот-то умел разбираться в человеческих характерах:
«Как монету, так и друга надо испытать заранее, до того, как понадобится его помощь, чтоб узнать его истинное лицо не после того, как мы окажемся в беде… В противном случае мы попадем в положение тех, кто, полакомившись отравленным угощением, наконец, почувствовал, что отрава смертельна…» Это ведь у Плутарха целая наука — «Как ласкателя от друга распознать».
Михаил прислушивался, соглашался, но в душе все еще был дичком. Так много работы задавал его неокрепшему уму новый наставник, так трудно было решиться на окончательный выбор. Где же в конце концов счастье? Там где шелковыми шторами губернаторского дома скользят тени танцующих? Или в подслеповатой каморке, обитатель которой начитывает ему вслух мысли своих любимых мудрецов? За стонами и на чердаке шуршат мыши, а он так воодушевлен, словно сквозь прореху горбатого потолка пролит сюда невидимый чудесный свет…
Странный сон приснился однажды Михаилу. Встал он и полпенни и иге вспомнил до подробностей. Рассказать Григорию Саввичу? Нет, на это он решиться не мог, потому что сон был как раз про них — учителя и Михаила.