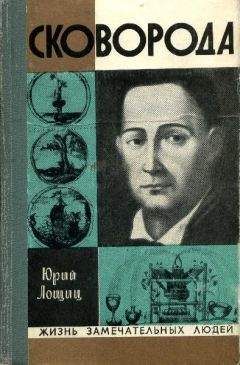Один из монахов — звали его отец Каллистрат — вернулся и произнес, потупив глаза, что если можно, то он хотел бы завтра прогуляться с гостями где-нибудь в окрестностях монастыря.
На другой день они вышли втроем из лаврских ворот и взобрались на пустынную гору. Присели на траву, отец Каллистрат обнял Сковороду за плечи:
— } п сам так мыслю, как ты вчера говорил перед нашею братиею, да никогда не смел следовать своим мыслям. Чувствую, что не рожден я к черному наряду, что прельстился одним наружным видом благочестия, не имея сил для истинного подвига. Вот и мучу жизнь мою… Скажи, мудрый муж, могу ли я…
Сковорода, не дослушав, ответил евангельским изречением: — От человек невозможно, от бога же вся возможна суть.
Внимал Михаил словам старших собеседников, и томило его беспокойство: как же, однако, сам он еще мало понимает, и знает, и разумеет, если столь непросто ему разобраться в том, что все-таки произошло вчера и продолжается сегодня и каковы на самом деле понятия его учителя об истинном благочестии! Или оно в монастырских стенах вообще обитать не может? Но как тогда связать с этим восторженные речи Сковороды о великих мужах, чьи мощи они ходили смотреть в пещеры?
Много недоумевал он прежде, продолжал иногда недоумевать и теперь. Но теперь все-таки было ему легче, потому что он ужо доверился Сковороде, как юный послушник доверяется духовному отцу.
И еще не год, не два — много больше должны были они вместе жевать эту науку наук, не входящую ни в какие школьные курсы, пока ученику не открылся «истинный человек» учителя, о котором Коваленскому суждено было поведать современникам и потомкам в своей книге «Жизнь Григория Сковороды».
В «воспитательном романе», неповторимый сюжет которого складывался тогда в стенах и за стенами Харьковского коллегиума, Сковорода был не только идеальным другом, но и искусным педагогом. Он воспитывал не назиданием, не педантичным резонерством по поводу книжного факта или обиходного события, а самими жизненными ситуациями, в которых они — старший и младший — оказывались оба или каждый отдельно, но так, что это было на виду у другого. Кладбищенские прогулки с игрою на флейте — лишь одна из множества подобных ситуаций. Даже сугубо практические занятия, например овладение языком или навыками к стихотворству, Сковорода старался строить с тем расчетом, чтобы во главе угла оказывалось не формальное умение (хотя именно это на первый взгляд и служило самоцелью), а упражнения юного ума в любомудрии.
Впрочем, формальные навыки скорее пригодились Коваленскому. В 1768 году ему, в то время уже ученику богословского класса, руководство коллегиума поручило преподавать пиитику. А спустя еще четыре года Михаил уезжает за границу в качестве гувернера с двумя сыновьями графа и фельдмаршала Кирилла Григорье вича Разумовского (так семейство Разумовских снова косвенно появляется на жизненном горизонте Сковороды).
Отсутствуют биографические нити, которые бы помогли объяснить столь резкую перемену в судьбе недавнего школяра. Правда, в некоторых письмах Сковороды к Михаилу высказываются советы и пожелания по поводу предстоящего репетиторства в некоем «дворце», но относится ли это именно к Разумовским?
По крайней мере, вполне очевидно, что сковородин-ский пестун, заканчивая коллегиум, был достаточно незаурядным гуманитарием, чтобы не засидеться долго в Харькове.
Кирилл Разумовский к этому времени уже расстался (не без усилий со стороны новой императрицы) со своей фиктивной ролью малороссийского гетмана. Но, по-преж-нему оставаясь могущественным вельможей, он и многочисленным детям своим загодя хотел обеспечить достаточно надежные места под солнцем. Сопровождаемые Михаилом Ковалинским юные графы Лев и Григорий посетили Геттинген, побывали в Лионе, занимались в учебных заведениях Лозанны, откуда неоднократно наезжали в Женеву. В Женеве жил тогда Вольтер, и для Разумовских достаточной рекомендацией, чтобы встретиться со знаменитым атеистом, могло послужить хотя бы то, что он состоял в переписке с их родителем. Но, к огорчению молодых людей, ветхий философ оказался болен и на записку Разумовских о желании посетить его ответил вежливым отказом.
Находясь в Лозанне, Ковалинский завел знакомство с местным ученым Даниилом Мейнгардом. Швейцарец этот по первому же взгляду поразил его внешним сходством со Сковородой, л далее обнаружилось, что сходство не только внешнее: «Он столько похож был чертами лица, обращением, образом мысли, даром слова на Сковороду, — вспоминал потом Михаил, — что можно было почесть его ближайшим родственником его».
Несколько склонный но природе к мистической экзальтации, Ковалинский немедленно полюбил Мейнгарда, впрочем, пожалуй, даже не его самого, а лишь этот чудесно отражавшийся в его существе образ незабвенного своего харьковского друга.
Швейцарец проникся ответной симпатией к молодому человеку, Михаил сделался частым гостем в прекрасном загородном доме Мейнгарда, где свободно пользовался богатствами громадной библиотеки хозяина.
Когда Ковалинский вернулся на родину й, встретясь с Григорием Саввичем, поведал ему историю своего лозаннского знакомства, того захватывающая эта новость увлекла и взволновала не менее, чем Михайла. Надо же, значит, где-то ходит по земле второй Сковорода, и они ничего не знают друг о друге!
Привыкший в каждом имени или прозвище различать некую символическуго эссенцию целой человеческой жизни, Сковорода и здесь обнаружил возможность для увлекательных объяснений и истолкований. Мейнгард это ведь «мой сад»! и Даниил имя одного из самых проникновенных ветхозаветных тайновидцев! «Мой сад…» Слово это — сад — всегда значило для него образ совершенного мироустройства: здесь было емкое, как золотистый сон, воспоминание о детстве человечества и о своем, таком уже отдаленном детстве, здесь били запахи цветущих яблонь, хоры медоносиц, присутствие труда, сладостного, как творчество. Недаром же и сборник песен своих наименовал он «Садом». Он, Григорий, и родственная ему душа, неизвестный Даниил, — выходит, оба они из одного сокровенного сада! Ну что ж, если существует на свете второй Сковорода, то пусть и он, Сковорода, будет для Михайла вторым Меингардом!
Этот вроде бы полушутя, а в то же время и очень ответственно избранный псевдоним с тех пор то и дело мелькает в переписке ученика и учителя: «Любезнейший Мейнгард где бы Вы не были, на всяком месте люблю я душу Мейнгардову…»
И в ответ:
«Твой друг и брат, слуга и раб, Григорий Варсава Сковорода — Даниил Мейнгард».
Краткая встреча Ковалинского со Сковородой после возвращения из-за границы— последняя перед почти двадцатилетней разлукой. Для дружбы их наступили новые испытания — несравненно более серьезнее, чем в харьковские годы. Тот самый «свет», об опасностях которого Сковорода непрестанно твердил в письмах ученику и в беседах с ним, теперь все чаще стал являться перед Коваленским, и не в образах, не в грезах, а наяву.