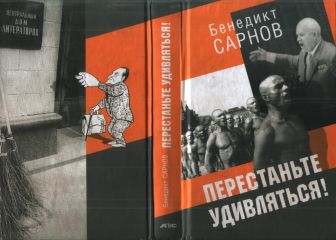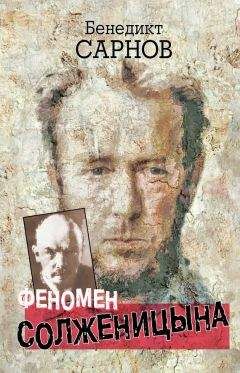— Миша, мне кажется, за мною опять пришли.
Конфликт хорошего с отличным
Автор «Белой березы» Михаил Бубеннов и автор «Зеленой улицы» Анатолий Суров были самыми злостными антисемитами в Союзе писателей. А может быть даже и во всём СССР.
И вот однажды они подрались.
Уж не знаю, что они там не поделили. А может быть, это был даже какой-нибудь принципиальный, идейный спор. Один, может быть, доказывал, что всех евреев надо отправить в газовые камеры, а другой предлагал более мягкий вариант: выслать их на Колыму. Или, еще того либеральнее, — в Израиль.
Как бы то ни было, они подрались. И драка была серьезная. В ход была пущена даже мебель — стулья, табуретки…
Случилось это в старом писательском доме на Лаврушинском — том самом, который громила булгаковская Маргарита. Увлеченные борьбой супостаты выкатились из этого облицованного мрамором дома прямо на улицу, на потеху большой толпы народа, образовавшей традиционную очередь в Третьяковку. Оружием одного из сражающихся, как рассказывали очевидцы, стала вилка, которую он вонзил своему оппоненту в зад.
Сражение это вдохновило Эммануила Казакевича. Вдохновило настолько, что он описал его не прозой, как это можно было бы ожидать, а стихами. И даже облек эту свою поэтическую зарисовку в чеканную форму сонета:
Суровый Суров не любил евреев,
Он к ним враждой старинною пылал,
За что его не жаловал Фадеев
И А. Сурков не очень одобрял.
Когда же Суров, мрак души развеяв,
На них кидаться чуть поменьше стал,
М. Бубеннов, насилие содеяв,
Его старинной мебелью долбал.
Певец березы в жопу драматурга
С ужасной злобой, словно в Эренбурга,
Столовое вонзает серебро.
Но, следуя традициям привычным,
Лишь как конфликт хорошего с отличным
Решает это дело партбюро.
В сочинении этого сонета, во всяком случае в доведении его до совершенства, принял участие сам Твардовский. Именно он, как рассказывали свидетели творческого процесса, подарил Казакевичу замечательную (едва ли не лучшую во всём стихотворении) строчку: «Столовое вонзает серебро».
Конфликт хорошего с отличным, упоминаемый в заключительных строчках сонета, — не остроумная выдумка сатирика (вроде «Проекта о введении единомыслия в России» Козьмы Пруткова). Был — на самом деле — в критическом и литературоведческом обиходе того времени такой термин. Означал он примерно следующее. Изображается, например, в пьесе дружный трудовой коллектив, готовящийся пустить к очередной годовщине Октябрьской революции новый заводской цех. Или задуть новую домну. Все работают не покладая рук. Изо всех сил стараются поспеть к назначенному сроку. И вдруг возникает молодой энтузиаст — инженер или рабочий, — который утверждает, что, поднатужившись, можно завершить дело на полгода раньше — к Первомаю. Некоторые инженеры (они тоже хотят как лучше!) утверждают, что это технически невозможно. Возникает конфликт. Тот самый конфликт хорошего с отличным. Или — лучшего с хорошим, как иногда еще его называли.
По мысли теоретиков социалистического реализма этот конфликт должен был стать главным, а может быть, даже и единственным в советской драматургии. Поскольку никаких других конфликтов в жизни советского народа при полном торжестве социализма уже не останется.
Авторы и редакторы КЛЭ (Краткой Литературной Энциклопедии, выходившей у нас в 60-е годы) любили пошутить. Мишенью этих шуток были недавно еще неприкасаемые столпы и ревнители официальной идеологии. А поскольку времена были уже сравнительно либеральные, некоторые из этих шуток не только вылетали за пределы редакционных стен, но даже и выплескивались на страницы самого издания. Так, например, под статьей о широко известном в литературных кругах гепеушном провокаторе Эльсберге красовалась подпись: «Г.П. Уткин» прозрачно намекавшая на кровную связь героя статьи с нашими славными органами.
Иногда шутки, не теряя своей язвительности, были более тонкими: не внося в текст статьи никакой отсебятины, сохраняя видимость предельной объективности, шутники играли на контрастах, создавая разные причудливые комбинации из заглавий, упоминаемых в библиографическом указателе.
Статья о Сартре, например, сопровождалась таким списком критической литературы о знаменитом французе: «Смертяшкины во Франции» (1947), «Философия предателей» (1949), «Черная драматургия французских космополитов» (1950), «Сартр и развитие современной французской драмы» (1959), «Интеллектуальные драмы Сартра» (1962), «Эстетическая концепция Ж.-П. Сартра» (1968), «Жан-Поль Сартр и Экзистенциализм» (1970).
Простой этот перечень, показывая, как менялось отношение к Сартру у советских его критиков в зависимости от направления стрелки идеологического компаса, как отражалось это в самой стилистике одних только заглавий их критических опусов, представлял собой довольно злую пародию на тогдашние наши литературные нравы. Куда было направлено жало этой художественной сатиры, объяснять не приходилось, тем более что авторами этих разных статей, выполненных в столь различных стилистических манерах, порой оказывались одни и те же люди.
Вершиной этих изящных стилистических игр сотрудников КЛЭ явилась сочиненная кем-то из них статья о Ермилове. Она вся — целиком! — состояла только из перечня названий трудов этого критика и литературоведа, написанных в разное время. Художественный приём, так удачно реализованный в библиографическом указателе к статье о Сартре, тут сработал не с удвоенной и даже не с удесятеренной, а по меньшей мере стократной мощью.
Надо сказать, что заслуга автора этой замечательной статьи тут была не особенно велика: она целиком исчерпывалась изобретением самого приёма. Что же касается наполнения этой схемы комическим содержанием, то это уже была исключительная заслуга самого Ермилова. Потому что никто из славной когорты наших литературных бойцов не колебался вместе с линией партии так ретиво, так упоённо, так суетливо, забегая далеко вперёд и постоянно выставляя себя более роялистом, чем сам король, как делал это он — Владимир Владимирович Ермилов.
Недаром про него сочинили такой анекдот (а может, это был даже и не анекдот, а подлинный факт). На калитке ермиловской дачи в Переделкине красовалось обычное среди тамошних дачевладельцев предостережение: «Осторожно! Злая собака!» Так вот, к ермиловской этой вывеске кто-то будто бы приписал: «И беспринципная».
Благодаря совершенно исключительной беспринципности Владимира Владимировича простой перечень названий его трудов, сопровождаемый скупым фактологическим комментарием, превратился в подлинный сатирический шедевр.