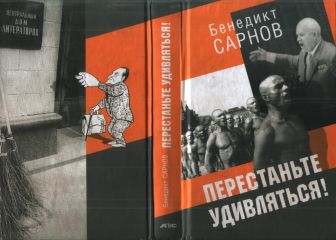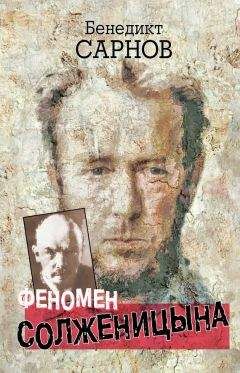Благодаря совершенно исключительной беспринципности Владимира Владимировича простой перечень названий его трудов, сопровождаемый скупым фактологическим комментарием, превратился в подлинный сатирический шедевр.
Выглядело это примерно так:
«В 1939 и в 1949 гг. Е. выступил с резкими статьями, разоблачающими реакционную направленность творчества Достоевского („Горький и Достоевский“, „Против реакционных идей в творчестве Ф.М. Достоевского“). В 1956 г. опубликовал книгу „Ф.М. Достоевский“, в которой характеризовал этого писателя как великого реалиста и гуманиста».
Ну и так далее — всё в том же духе.
Я написал: «выглядело это примерно так», потому что привести подлинный текст того литературного шедевра, к сожалению, не могу. Читал я эту статью в вёрстке, и вёрстка эта, к сожалению, у меня не сохранилась. (Прочел — или дал прочесть — друзьям. Посмеялись, повеселились, да и выкинули, дураки.) А до публикации этой статьи в соответствующем томе дело, увы, не дошло. Сатирическая направленность скупого изложения всех зигзагов творческого пути Владимира Владимировича так крепко била в нос, что бдительное начальство, разглядев подвох, успело предотвратить скандал.
Скандал тем не менее произошел.
Но это был скандал уже совсем другого рода, хотя в основе его лежали те самые черты нравственного облика В. В. Ермилова, которые нашли отражение в той, так и не попавшей в энциклопедию статье.
Когда Владимир Владимирович завершил свой земной путь, гроб с телом усопшего бойца был установлен, как это полагалось ему по чину, в Малом зале ЦДЛ.
В этом зале провожали в последний путь самых разных литераторов. Нередко зал в таком случае бывал переполнен до отказа, и толпа провожающих, не поместившихся в зале, заполняла весь вестибюль писательского клуба. А иногда пришедших отдать последнюю дань усопшему бывало совсем мало: всего-навсего пятнадцать-двадцать человек, сиротливо теснившихся у гроба. Но за многие годы я знаю только один — единственный! — случай, когда проводить «дорогого покойника» не пришел никто.
У гроба Владимира Владимировича Ермилова не было ни души. (Кроме, разумеется, служащего литфонда, постоянного тогдашнего устроителя всех писательских похорон.)
Ситуация была до такой степени необычная, что литфондовское и клубное начальство растерялось. Резонно предполагая, что лицам, провалившим важное общественное мероприятие, придется за это отвечать (пойди потом доказывай, что ты не верблюд), кто-то из них в панике позвонил в ЦК. И последовало мудрое решение. Не просто решение, а — приказ: в добровольно-принудительном порядке согнать в Малый зал всех служащих ЦДЛ: официантов, уборщиц, секретарш, счетоводов, библиотекарей… Явилось, конечно, и всё клубное начальство. Строго поглядывая на подчиненных, они нагнетали гражданскую скорбь, а те послушно шмыгали носами. Некоторые, говорят, даже плакали.
Им пришлось это выслушать
Шло собрание московских писателей. Не помню уж, по какому случаю собрали нас тогда. Помню только, что на сцене, за столом президиума восседали все секретари. Да и не только секретари — были там еще и какие-то морды то ли из райкома, то ли из горкома, а может быть, даже и из ЦК. Все было чинно, торжественно и до смерти скучно.
Скука была такая, что я на время как-то выключился. Вроде как даже задремал. И вдруг — очнулся. Почувствовал: что-то произошло. Какой-то тихий шорох прошел по залу. И — тишина. Но не та мертвая, тухлая тишина, которая царила в этом зале до того, как я отключился. Это была совсем другая тишина: живая, напряженная. Весь зал кого-то внимательно слушал. Слушал так, как давно уже никого не слушали в этом зале.
Приглядевшись, я узнал оратора. Это был Степан Павлович Злобин — человек редкой смелости, честности и благородства. Что же он такое сказал? — успел подумать я, ругая себя за то, что проспал что-то интересное, а может быть, даже и важное. Но оказалось, что очнулся я вовремя: самое интересное и важное только началось.
Обернувшись к столу президиума и указывая на сидящих за этим столом рукой, Степан Павлович кинул им прямо в их сановные рожи:
— Вы, жадною толпой стоящие у трона, Свободы, Гения и Славы палачи!..
Лица секретарей и партийных функционеров стали багровыми.
Голос Степана Павловича гремел:
— Таитесь вы под сению закона, пред вами суд и правда — всё молчи!..
Зал наслаждался. Сидящие в президиуме ежились. Лица их из багровых стали фиолетовыми. Но что они могли сделать? Нельзя же было запретить оратору читать вслух стихи Лермонтова. Так что пришлось им — в кои-то веки! — услышать всю правду о себе. Высказанную публично, при большом стечении народа и в самых нелицеприятных выражениях.
В день выхода в свет знаменитого постановления ЦК «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» Михаил Михайлович Зощенко — естественно, в растрепанных чувствах — шел по Невскому. И вдруг увидал — на другой стороне проспекта — Ахматову.
Пренебрегая опасностью попасть под автобус или еще какой-нибудь вид автомобильного транспорта, он кинулся к ней:
— Что же делать, Анна Андреевна? Неужели терпеть?!
— Терпеть, Мишенька, — величественно ответила она.
Юмор этой истории заключается в том, что Зощенко уже знал о постановлении, круто сломавшем их жизнь, а она о нем еще ничего не знала.
Впрочем, если бы и знала, отреагировала бы, я думаю, точно так же.
После знаменитого постановления ЦК о Зощенко и Ахматовой в бакалее стояла за чем-то большая очередь. Очередь гудела, толкалась и переругивалась. Всем было некогда, и все дружно ругали директора магазина, создающего очереди. Он и пьет, и ворует, и вообще его давно пора посадить в тюрьму.
— Но кого будет жаль, если его посадят, так это его жену, — сказала сердобольная старушка. — Жена-то в чем виновата?
— Да, — сказали в очереди. — Жены за все в ответе. Вот и сейчас, ведь все знают, что Зощенко подлец и мерзавец, а жену его Ахматову за что так ругают? Все за него же!
— Да, бедная она, бедная, — дружно жалела очередь.
В те времена, когда Зощенко был в жестокой опале и отчаянно бедствовал, остановился под окнами его квартиры сверкающий лаком автомобиль. В автомобиле сидел Катаев и две бойкие девицы. Валентин Петрович был навеселе (в обоих смысла этого слова), девицы тоже.